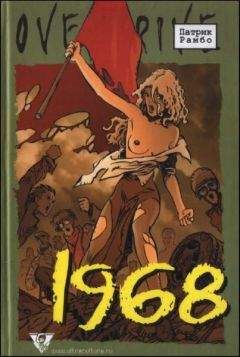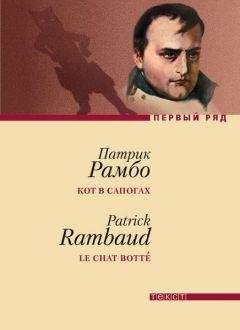Около пяти часов вечера он приехал к решетчатым воротам на площади Бово и попросил сообщить министру внутренних дел, что явился для доклада. Энергичный Кристиан Фоше, давний соратник Шарля де Голля[22], сразу же принял его:
— Ну, что мы имеем, мсье Гримо? — спросил он, нахмурив густые брови.
— Посмотрите, господин министр.
Префект протянул ему листовку. Министр только что вернулся из Меца[23], где председательствовал на конференции мозельских мэров, так что за ситуацией он следил издалека. Фоше просмотрел листовку: «Буржуазия старается изолировать и разобщить наше движение. Мы должны отреагировать немедленно. Объявим всеобщую забастовку. С понедельника и до тех пор, пока все наши товарищи не будут освобождены…»
Воззвание было написано от имени Студенческого союза, вице-президент которого был арестован в пятницу. Министр спросил префекта:
— А этот Соважо все еще в кутузке?
— Освободили вчера вечером, как и Кон-Бендита[24].
— Этого буйнопомешанного из Нантера?
— Его арестовали еще до начала беспорядков, но завтра он предстанет перед университетским советом. Пусть деканы и ректоры сами с ним разбираются. Это не наше дело.
— Главное — сохранять спокойствие, избегать столкновений, но перевес должен оставаться на стороне закона.
— Насколько это возможно, господин министр.
— Что вас смущает?
Никто в правительстве не принимал студентов всерьез, министры шутили, говоря, что для ребят это прекрасный способ отвертеться от приближающейся сессии, пожимали плечами. Де Голль считал весь этот шум простым ребячеством. Студентам положено учиться, и точка. Чтобы мальчишки оскорбляли государство? Об этом не может быть и речи. Надо их проучить. Даже в тот день, когда начались беспорядки, генерал нимало не был обеспокоен страстями, кипящими в аудиториях. Он пообедал с Фернанделем[25] и Анри Труайа[26], а потом отправился в свою резиденцию в Коломбе[27], чтобы подготовиться к отъезду в Румынию. Первый министр Жорж Помпиду[28] находился в Иране. В тот день он в бронированном подземном хранилище одного из тегеранских банков восхищался сокровищами шаха. Он отказался прервать поездку и дал всего одно указание: «Проучите этих молокососов!»
Кристиан Фоше задумался.
— Вы полагаете, — спросил он префекта, — мы совершили ошибку, послав наших людей в Сорбонну?
— Наши люди откликнулись на призыв ректора.
— Это я прекрасно знаю.
— Были допущены некоторые оплошности, — добавил префект.
Неделю назад полицейская служба общей информации встревожила Алена Перефитта, министра образования, в самых устрашающих красках изобразив университетский городок в Нантере и леваков, уже в который раз готовящих там серьезные беспорядки. От декана Граппена потребовали закрыть факультет. Занятия возобновятся, когда все успокоится. Это привело к тому, что сотни возмущенных студентов вышли на площадь перед Сорбонной, приехала полиция. Наказать виновных? Или выждать? Все колебались, и министр юстиции Луи Жокс, исполнявший обязанности премьер-министра, отнюдь не горел желанием принимать какие-либо решения.
— Неужели Вы так боитесь завтрашней демонстрации? — спросил министр у префекта.
— Мсье Перефитт объявил преподавателям, что демонстрация незаконная, мало того, выступая по радио, он обозвал студентов смутьянами…
— А разве это не правда?
— Правда не всегда бывает кстати.
— А что левые? Политики?
— Сидят тихо. Компартия отзывается о студентах примерно так же, как господин министр образования.
— Прекрасно! Значит, это будет обычное студенческое шествие.
— Это выяснится завтра, господин министр.
Понедельник, 6 мая 1968 года
Я потребляю, ты потребляешь, они этим пользуются
При входе в женское общежитие университетского городка в Пантере, где раньше сидели в засаде несносные сторожа, строго следившие за всеми входящими и выходящими, чья-то безымянная рука намалевала на стене ярко-красную надпись «Запрещается запрещать». Родриго и Теодора, увешанные пакетами, поднялись на седьмой этаж, постучали в одну из многочисленных дверей, услышали сонное «да…», представились, и Марианна открыла им, потягиваясь. Волосы спадали ей на глаза, одета она была в толстый свитер, закрывавший бедра.
— Который час?
— Девять, радость моя, — ответил Родриго, ставя свой пакет возле походной газовой горелки, на которой грелась кастрюля с водой.
— Демонстрация сегодня после обеда?
— Ты что, радио не слушаешь?
— У меня в транзисторе батарейки кончились.
— Все уже началось, — волновалась Тео, а Марианна тем временем доставала из крошечного шкафчика разномастные чашки, чтобы налить всем «нескафе».
Действительно, тысячи студентов уже собрались в Латинском квартале, где патрулировали полиция, жандармы и республиканские отряды безопасности.
Родриго объявил, что прохлаждаться некогда, и выдвинул на середину комнаты кучу пакетов.
— Ты что, читаешь «Франс-Суар»? — удивилась Марианна, глядя, как он выгружает на пол толстую пачку.
— Двадцать пять листов буржуазной прессы под курткой, на плечах и на затылке — и никакие дубинки нам не страшны, — заявил он.
Родриго напускал на себя вид знатока кубинской революции, но сам не сводил восторженного взгляда с ног Марианны. Та допивала кофе, устроившись на солнышке у окна с видом на нескончаемые трущобы. Для Марианны все началось здесь, в этой убогой панельной многоэтажке, куда ректорат всеми силами пытался не допускать мальчиков. Студентов просто бесили покровительственные разглагольствования старших, они хотели сами решать, как им жить, хотели участвовать в факультетском самоуправлении. А вокруг были одни правила, приказы, требования — словом, кнут и ежовые рукавицы. Но и после того, как студенты захватили власть в женском общежитии, взрослые продолжали общаться с ними с позиции силы. Из-за спрятанных в окрестностях полицейских машин нервы у всех в Нан-тере были, натянуты до предела. Поговаривали о том, что имена самых буйных и крикливых студентов занесли в черные списки, чтобы потом завалить на экзаменах. Анархисты развесили в главном вестибюле фотографии предполагаемых инспекторов-шпионов в гражданском. На днях по ошибке избили какого-то человека в серобежевом плаще. Оказалось, что это отец студентки факультета английского языка, который принес ее документы в секретариат и остановился почитать плакаты: «Профессора, вы делаете из нас стариков!» или «Вместо кибернетики — легавые!» 22 марта на открытом голосовании Марианна высказалась за захват восьмого этажа здания Б2, а потом сама уселась в деканское кресло за стол в виде подковы в зале ученого совета. Восторг переполнял ее. Взять власть оказалось так просто! Достаточно было не слушать слишком политизированных товарищей, маоистов и троцкистов разных мастей, которые призывали к сдержанности. Сами они удовлетворились бы захватом какой-нибудь аудитории, чтобы можно было устраивать собрания когда захочется, но основная масса студентов, нимало не заботясь о политической стратегии, смела их в бесшабашном, хаотическом порыве. Что может быть символичнее, чем топтать ковер в кабинете декана! Так они давали понять взрослым, чей мир они отвергали, что настроены самым решительным образом.
— Марианна, ты в каких облаках витаешь? — спросил Родриго, легонько кладя ей руку на плечо. Девушка вздрогнула от неожиданности.
Полицейский Миссон, утомленный бесполезным ожиданием, с семи часов утра стоял на закоченевших ногах на углу улицы Сен-Жак. Он не отказался от сигареты, которую предложил ему старший по званию, хотя курить на посту не разрешалось. «Черт побери! — думал он, — И так столько всего приходится терпеть! То брань, то булыжники…» Разнарядку на сегодня ему прислали домой посреди ночи. Пришлось надеть форму и уйти из дома еще до того, как проснутся маленький ребенок и жена-консьержка. Сегодня ей придется самой завезти пустые мусорные контейнеры под навес во дворике. В метро Миссон сел на один из самых ранних поездов, в полном обмундировании и с каской за спиной. От всего этого было мало радости. Он предпочитал появляться перед утренними пассажирами в компании двух-трех коллег. Вместе не так неприятно было ловить на себе насмешливые взгляды.
А теперь по улице Эколь двигались толпы молодежи, стекавшиеся с бульвара Сен-Мишель или с площади Мобер. Они приближались к Сорбонне и к первым рядам полицейских в касках. Совсем юная девушка в платке, повязанном вокруг шеи, в теннисных туфлях и со строительной каской в руке уставилась ему прямо в глаза: «Эй, ты, тебе же запрещено курить на работе! Хорошо устроился!» Она не улыбалась, она просто издевалась над ним, но ему не хотелось отвечать, хотя эта провокация его разозлила. Толпа становилась все гуще и недовольно гудела. Вдруг от входа в университет, от дома номер 46 по улице Сен-Жак, прокатилась волна криков. Миссон взглянул на часы. Четверть десятого утра. Студенты, которые должны были предстать перед дисциплинарным советом, распевали «Интернационал», а вокруг них толпились фотографы и журналисты. Краснолицый сосед Миссона, сжимавший обеими руками дубинку, шепнул ему на ухо: