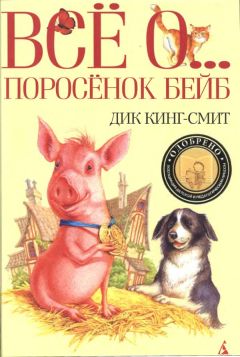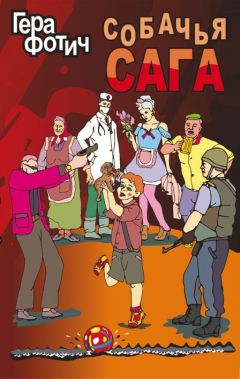кто?
— Об этом я скажу руководителю вашей организации. Лично. Пусть приходит завтра в кафе «Трамбле» на Тверском бульваре. Один. Ровно в полдень, без опозданий. Ждать я не стану.
Сказав это, Константин Маркович остановился как вкопанный и сразу отстал. Когда приятели, пройдя по инерции несколько шагов, обернулись, то увидели спину англичанина, а может и не англичанина, черт его разберет. Разговор был окончен.
— Капита-альный господин, — протянул Спрогис. — Айда на Лубянку к товарищу Петерсу, докладывать.
— Сдурел? — осадил его Буйкис. — А если они следят? Сначала зайдем в казарму Девятого полка. Будто к себе. На Лубянку после.
Немного поспав, Сидней чувствовал себя отдохнувшим, а многообещающая встреча зарядила его энергией, поэтому идти на Малую Бронную он передумал. Отправился в Шереметевский переулок.
Если бы Сиднея спросили, кто самый трагичный персонаж мировой литературы, он не задумываясь ответил бы: конечно, Дон Жуан, неисцелимая жертва любви. Только идиоты считают Дон Жуана ненасытным соблазнителем и разбивателем женских сердец. Это женщины соблазняли бедного идальго, раз за разом разбивали ему сердце. Он как Тантал, который никогда не утолит своей жажды. Его влечет не плоть — что плоть. Его пьянят бесчисленные лики любви, ведь двух одинаковых любовей не бывает, как не бывает двух одинаковых женщин. Каждая неповторима, каждую нужно любить по-своему, и тогда она тоже полюбит так, как никто и никогда тебя любить не будет. В молодости Рейли (тогда он носил другое имя) совершил немало сумасшедших поступков, даже преступлений, если того требовала любовь, а она требовательна, ох как она требовательна, но никогда, никогда не раскаивался в содеянном.
Заклятье Сиднея — а может быть, и проклятье — заключалось в том, что ему всегда было мало любить только одну женщину. Это была шизофрения, но сделать с собой он ничего не мог. Любовь — нет, любови — мешали ему в Главном Деле, повергали душу в смятение, а мысли в сумбур, но, может быть, в этом и состояла великая неподдельность жизни, в которой мука и наслаждение, злодейство и святость, награда и наказание неотрывны друг от друга.
Летом 1918 года Сидней Рейли любил двух московских женщин. Обе были уникальны и прекрасны. Он метался между ними, словно мотылек меж двух огней. Один светил ровно и тихо, другой рассыпался бенгальскими искрами. Экзистенция вибрировала и звенела, как натянутая до отказа струна, вот-вот оборвется. Мир великих свершений, где правит История, а стало быть Смерть, перемешивался с миром, в котором царствует Любовь, а стало быть, Жизнь, в какой-то невообразимый павлиний хвост. Наверное, это было счастье.
* * *
Лизхен ходила не похожая на себя, потухшая. Она не могла обходиться без музыки. Обычно насвистывала, будто щегол, или распевала шансонетки, а теперь мычала грустные оперные арии без слов. Днем еще ничего, днем в студии шли репетиции, разучивали новую революционную пантомиму «Марат», где Лизхен играла Шарлотту Корде — исполняла танцы в стиле «гротеск» (особенно хорош был канкан с кинжалом), но вечером было одиноко. По четвергам же репетиций не было. Согласно теории руководителя студии Николая Осиповича Массалитинова, актерам надлежало заниматься «само-рефлексией» — вживаться в роль и упражняться дома, перед зеркалом, это накапливает творческое напряжение.
Сегодня был четверг. Напряжения в Лизхен накопилось через край. С утра она то гримасничала, то, одетая в трико, задирала длинные ноги перед зеркалом, то выходила в коридор и застывала перед золотой дверью — точь-в-точь как тетина болонка Тяпа, по десять раз на дню бегавшая на кухню к своей миске и удивлявшаяся, что там пусто.
Дверь вообще-то была обыкновенная, покрашенная охрой, но за нею происходило волшебство, и потому она мерцала, словно вход в златой чертог. Волшебство началось, когда три месяца назад в большой тетиной квартире поселился постоялец, как и Лизхен, приехавший из Петрограда. Сначала он ей не понравился — черный носатый грек. Старый, лет сорока, занимается чем-то скучным, и фамилия сюсюкающая: Массино, будто слово «машина» с греческим акцентом. Но в первый же вечер они разговорились, просидели в столовой до полуночи. Тетя давно ушла к себе, а Лизхен всё слушала рассказы человека, объехавшего весь свет и пережившего тысячу удивительных приключений. Много смеялась, пару раз расплакалась — она легко переходила от одного настроения к другому. Он сделал ей очень странный комплимент: «Ваше лицо похоже на лампочку». «Почему на лампочку?» — рассмеялась она. «В обычном состоянии пустое, никакое — стекляшка и стекляшка. Но стоит вам чем-то заинтересоваться, и зажигается электричество, вокруг становится светло. Я никогда не видел такого лица». Другая бы на «стекляшку» обиделась, а Лизхен была польщена. Настоящая актриса и есть электрическая лампочка: когда загорается, темный зал наполняется светом. У Константина Марковича лицо тоже было поразительное — как переводная картинка, которые Лизхен любила в детстве: трешь мутный, аляпистый рисунок, и от прикосновения он расцветает красками, бесформенное пятно превращается в прекрасного принца. Даже удивительно, что поначалу она не заметила всей красоты этого лица. На одном из занятий Николай Осипович объяснял японскую концепцию «югэн» — потаённой красоты, открывающейся не всем и не сразу.
В ту ночь Лизхен всё ворочалась в постели, вспоминая, с каким восхищением он на нее смотрел, словно любовался драгоценным ювелирным изделием. Однако ничего такого себе не позволил — никаких заигрываний, ни малейшего намека на ухаживание. И всё же не было ни малейших сомнений: он в нее влюблен и сейчас, конечно, тоже не спит.
Лизхен не колебалась — это ей было несвойственно. Просто откинула одеяло и как была, в одной рубашке, легкая и воздушная, словно эльф, прошелестела по коридору к золотой двери. Она, незапертая, с легким скрипом отворилась. За нею ждало волшебство.
На рассвете, сонно поцеловав еще вчера незнакомого, а теперь самого близкого на свете человека в горячие губы, Лизхен прошептала: «Я буду звать тебя Югэн».
Первой встрепенулась Тяпа и, возбужденно повизгивая, понеслась со всех лап в прихожую еще прежде, чем раздался звонок. Собака была дура дурой, но сразу почуяла в Югэне что-то особенное. Едва тот майским утром впервые появился на пороге и сказал тете: «Здравствуйте, я от Александра Николаевича», болонка принялась на него запрыгивать, вертеть пушистым хвостом.
Лизхен выглянула из своей комнаты. Было темно, электричество в квартиры теперь давали только в десять вечера, на один час, но с лестничной площадки проникал свет, на его фоне мужская фигура казалась вырезанной из черной бумаги.
Из гостиной шла тетя Дагмара с керосиновой лампой. По стенам закачались тени, из мрака проступило дорогое лицо. Лизхен прижала пальцы к погорячевшей