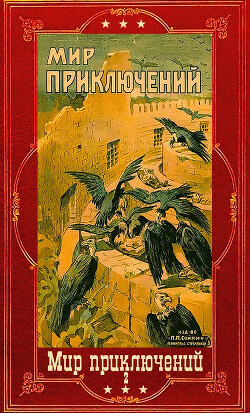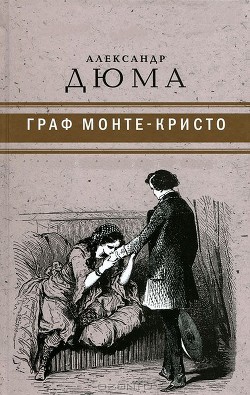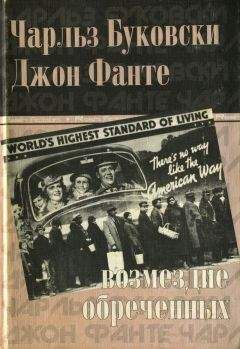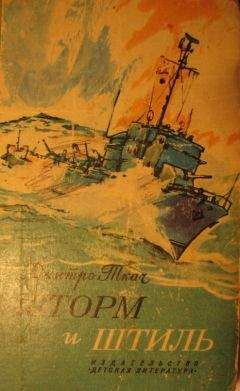— А я для Павла из Эгины, — крикнул Рожер. — Послушайте, господа! Вот вам наглядный случай. Апулей утверждает, что, если человек съест натощак соку лютика — мы называем эту разновидность sceleratus, что означает вредный, — то душа его покинет тело со смехом. И вот эта-то ложь опаснее истины, потому что в ней есть зерно истины.
— Теперь его не остановишь! — с отчаянием шепнул настоятель.
— Я сам по опыту знаю, что сок того растения сжигает, вызывает волдыри и судорожно стягивает рот. Я также знаю rictus, или мнимый смех на лицах тех, кто погибал от этого страшного яда. Конечно, эти спазмы похожи на смех. Мне кажется, что Апулей, увидев тело одного из отравившихся этим ядом, поторопился выводом и написал, что человек умер со смехом.
— Он не стал наблюдать и не подкрепил наблюдения опытом, — прибавил, нахмурясь, Бэкон.
Аббат Стефан мигнул глазом Джону.
— А как ты думаешь?
— Я не врач, — ответил Джон, — но думаю, что Апулея могли в течение всех этих лет подвести его переписчики. Они делают для быстроты сокращения. Допустите, что Апулей писал, что, кажется, что душа покидает тело со смехом. Мое мнение, что три переписчика из пяти выпустят слова: «кажется, что». Ведь Апулея никто не спросит. Раз он так говорит, то так и должно быть. А лютик знаком каждому ребенку.
— Вы знакомы с травами? — коротко спросил Рожер из Салерно.
— Все мое знание в том, что когда я еще был мальчиком в монастыре, я сделал себе соком лютика лишаи вокруг рта и на шее, чтобы не ходить холодной ночью на молитву.
— А! — сказал Рожер. — Я не стою за фокусничество со знанием. — Он холодно отвернулся.
— Пустяки! А покажи-ка нам твои собственные фокусы, — вмешался тактичный аббат. — Покажи-ка врачам свою Магдалину, гадаринских свиней и дьяволов.
— Дьяволов? Я производил дьяволов с помощью лекарственных снадобий и уничтожал их теми же средствами. Я еще не сделал вывода, живут ли дьяволы вне или внутри людей, — Рожер был все еще сердит.
— Вы и не смеете, — резко сказал Оксфордский монах, — мать-церковь сама создала дьяволов.
— Не вполне. Наш Джон вернулся из Испании с новенькими, как с иголки, дьяволами.
Настоятель взял переданный ему свиток и любовно разостлал его на столе. Гости собрались вокруг него. Магдалина была написана в бледных, почти прозрачных сероватых тонах, на фоне беснующихся женщин-дьяволиц. Каждая из этих бесовок была во власти своего греха и каждая отчаянно боролась с силой, покорявшей ее.
— Я никогда не видел ничего похожего на этот серый теневой рисунок, — сказал настоятель. — Как вы пришли к этому?
— Non nobis! [86] Он пришел ко мне! — сказал Джон.
— Почему она так бледна? — спросил Бэкон.
— Все зло вышло из нее, она примет теперь любой цвет.
— Ах, как свет, проходящий сквозь стекло. Я понимаю.
Рожер из Салерно смотрел молча, все ближе и ближе придвигаясь носом к листу.
Настоятель сидел у камина. Рожер Салерно рассматривал новых дьяволов художника Джона.
— Да, это так, — произнес он, наконец. — Так бывает в эпилепсии, — рот, глаза, лоб, даже опущенные кисти рук. Здесь все признаки эпилепсии. Этой женщине необходимы подкрепляющие средства и затем, конечно, сон. Не надо макового сока, от этого ее станет тошнить при пробуждении. А потом… но я не в своих школах. — Он выпрямился. — Господа, вам бы следовать нашему призванию. Клянусь змеями Эскулапа, вы видите!
Он, как равному, пожал руку Джону.
— А что вы скажете о семи дьяволах? — продолжал настоятель.
Эти исчадия ада превращались в перевивающиеся цветы или тела, похожие на пламя, то фосфоресцирующе-зеленые, то густо-пурпуровые. Чувствовалось, как внутри оболочки бились их сердца.
— А теперь гадаринские свиньи, — сказал настоятель. Джон положил картину на стол.
Тут были изображены растерянные дьяволы, страшащиеся пустоты и теснящиеся и толкающиеся, чтобы найти себе место в каждом отверстии тел животных. Некоторые свиньи, все в пене, брыкались, борясь с нашествием. Некоторые сонно сдавались, точно подставляя спину приятному почесыванию. Другие, уже одержимые, мчались вниз, к озеру.
— Это, действительно, дьяволы, — заметил Бэкон, — но совсем нового сорта.
Некоторые дьяволы были просто какими-то комками с лопастями и горбами — намек на сатанинскую рожу, выглядывающую из-за прозрачных, как студень, оболочек. Была целая семья нетерпеливых, шарообразных дьяволят, вырвавшихся из брюха гримасничающей мамаши и отчаянно тянущихся к своей жертве. Другие по одиночке или по нескольку сразу, превратившись в веревки или цепи, обвивались вокруг шеи или морды визжавшей свиньи, из уха которой вылезал узкий, прозрачный хвост дьявола, нашедшего себе хорошее убежище. Были и раздробившиеся или слившиеся в один клубок дьяволы, смешавшиеся с пеной и слюной там, где горячее всего было наступление. Дальше глаз переходил к неестественно-подвижным спинам мчавшихся вниз свиней, к полному ужаса лицу пастуха и к объятой страхом собаке.
Рожер из Салерно сказал:
— Я убежден, что эти дьяволы созданы под влиянием наркотических снадобий. Они стоят вне обыкновенного мышления.
— Только не эти, — сказал брат Фома, которому, как монастырскому служке, следовало бы спросить у настоятеля разрешения говорить. — Только не эти, — взгляните на бордюре…
Бордюр был разделен на неправильные части или ячейки, где сидели, плыли или вертелись дьяволы, еще, так сказать, без физиономии. Их силуэты напоминали опять цепи, хлысты, алмазы, бесплодные почки или фосфоресцирующие шары.
Рожер сравнил их с бесовским навождением, напавшим на церковного человека.
Фома полуоткрыл рот.
— Говори, — сказал аббат Стефан, наблюдавший за ним. — Мы все здесь более или менее доктора.
— Я бы сказал… — Фома заговорил так стремительно, точно ставил на карту убеждение всей своей жизни… — что эти низшие формы в бордюре не выглядят так злобно и жутко, как модели и образцы, по которым Джон выдумывал и разукрашивал своих собственных дьяволов там, среди свиней.
— А это значит? — резко спросил Рожер.
— По моему бедному суждению это значит, что он видел такие формы без помощи наркотиков.
— Но кто, кто же, — сказал Джон, — вдруг просветил тебя так?
— Меня просветил? Боже упаси! Только вспомни, Джон… Однажды зимой, шесть лет тому назад… снежинки, которые таяли на твоем рукаве у дверей кухни. Ты показал мне их через маленькое стекло, которое делало маленькие вещи большими.
— Да. Мавры называют такое стекло «глазом Аллаха», — подтвердил Джон.
— Ты показал мне тогда, как они таяли, и назвал их своими образцами.
— Тающие снежинки, виденные через стекло? С помощью оптического искусства? — спросил Бэкон.
— Оптического искусства? Я никогда не слышал про это! — воскликнул Рожер.
— Джон, — начальническим тоном сказал настоятель, — это было… было так?
— Отчасти, — ответил Джон. — Фома прав. Эти формы в бордюре были моими образцами для дьяволов на картине. В моем искусстве, Салерно, мы не смеем прибегать к наркотикам. Это убивает руку и глаз. Я должен видеть свои образцы честно в природе.
Настоятель придвинул к нему кубок с розовой водой.
— Когда я был в плену у… у сарацин, — начал он, заворачивая кверху свои длинные рукава, — там были некие маги… врачи…, которые могли показывать, — он осторожно обмакнул указательный палец в воду, — целый ад в такой капле.
Он стряхнул каплю воды с полированного ногтя на полированный стол.
— Но это должна быть не чистая вода, а гниющая, — сказал Джон.
— Так покажи же нам всем, — сказал аббат Стефан. — Я убедился бы еще раз.
Голос настоятеля звучал официально.
Джон вынул из кармана тисненую кожаную коробку, длиною в шесть или восемь дюймов. В коробке, на выцветшем бархате, лежало нечто похожее на оправленный в серебро циркуль из старого буксового дерева, с винтом в верхней части, с помощью которого можно было складывать или раздвигать ножки аппарата. Ножки кончались не остриями, а лопаточками. В одной лопаточке было отверстие, обделанное металлом, меньше чем в четверть дюйма в разрезе, в другой — отверстие в полдюйма. В это последнее Джон просунул металлический цилиндр, в который с двух сторон были вставлены стекла.