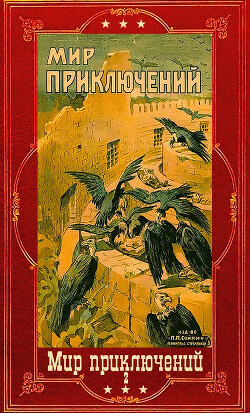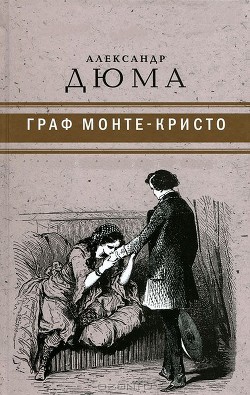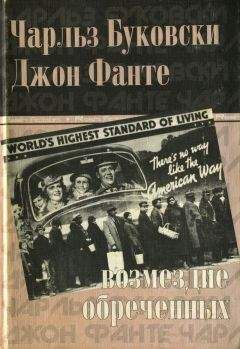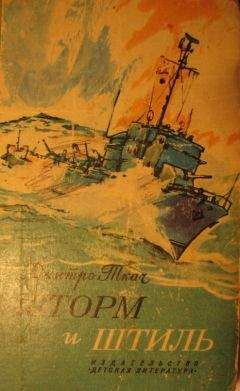— А! Оптическое искусство! — сказал монах. — Но что это внизу?
Это был маленький вращающийся серебряный листок, который ловил свет и концентрировал его на меньшем отверстии в лопатке.
— А теперь надо найти каплю воды, — сказал Джон, беря в руку маленькую щеточку.
— Пойдемте на верхнюю галлерею, — предложил настоятель. — Солнце все еще освещает свинцовую крышу, — сказал он, вставая.
Все последовали за ним. На полдороге течь из водосточной трубы образовала в источенном камне зеленоватую лужицу. Джон очень осторожно влил капельку в меньшее отверстие лопатки и приготовил аппарат для глаза.
— Отлично! — сказал он. — Мои образцы все там. Взгляните-ка теперь, отец. Если вы не сразу найдете их глазом, поверните эту зарубинку направо или налево.
— Я не забыл, — ответил настоятель. — Да. Вот они тут… как тогда… в былые годы. Им нет конца, говорили мне. Да, им, действительно, нет конца!
— Солнце уйдет! Ах, дайте мне взглянуть! Разрешите мне взглянуть! — умолял Бэкон, почти оттесняя аббата Стефана от стеклышка.
— Солнце уйдет! Дайте мне взглянуть, — умолял стоявший у колонны Бэкон.
Настоятель отошел. Его глаза видели давно прошедшие времена. Но монах, вместо того, чтобы смотреть, вертел аппарат в своих ловких руках.
— Ну, ну, — прервал Джон монаха, уже возившегося с винтом. — Дай взглянуть доктору.
Рожер из Салерно смотрел минута за минутой. Джон видел, как побелели его скулы, покрытые синими жилками. Он отошел, наконец, точно пораженный громом.
— Это целый новый мир… новый мир… О, господи! А я уже стар!
— Теперь ты, Фома, — приказал аббат Стефан.
Джон настроил цилиндрик для Фомы, руки служки дрожали. Он тоже смотрел долго.
— Это сама Жизнь, — сказал он, наконец, надорванным голосом. — Это не ад! Это ликующая жизнь. Они живут, как в моих мечтах! Значит не было греха в мечтах! Не было греха!
— А теперь я хочу посмотреть, как это устроено, — сказал оксфордский монах, выступая вперед.
— Неси аппарат назад, — сказал аббат Стефан. — Здесь кругом уши и глаза.
Они спокойно пошли по галлерее назад. Кругом, в свете вечернего солнца, простирались три английских графства. Церковь возле церкви, монастырь за монастырем, келья за кельей, и тяжелый силуэт огромного собора на горизонте.
Они снова уселись вокруг стола с винами и сладостями, все, кроме монаха Бэкона, который, стоя у окна, вертел в руках аппарат.
— Понимаю! Понимаю! — повторял он про себя.
— Он не испортит его, — сказал Джон. Но настоятель, уставившийся вперед, как и Рожер из Салерно, ничего не слышал. Фома опустил голову на дрожащие руки.
Джон потянулся за кубком вина.
— Мне показали еще в Каире, — как бы про себя заговорил настоятель, — что человек всегда стоит между двумя бесконечностями — между макрокосмом и микрокосмом. Поэтому нет конца… либо к жизни… либо…
— А я стою на краю могилы, — злобно крикнул Рожер. — Кто меня пожалеет?
Он вдруг засмеялся с лукавством старика.
— А как же наша мать-церковь? Святая мать-церковь? Что с нами будет, если она узнает, что мы заглянули в ее ад без ее разрешения?
— Нас сожгут тогда на костре, — сказал настоятель, слегка повышая голос, — слышишь ты меня? Рожер Бэкон, слышишь ты?
Монах у окна обернулся, крепче сжимая в руках циркуль.
— Нет, нет, — крикнул он, — я, я могу засвидетельствовать, что тут нет никакой магии. Это всего только оптическое искусство, мудрость, постигнутая трудом и опытом. Я могу это доказать, а мое имя имеет значение у людей, которые смеют мыслить.
— Найди их! — закричал Рожер из Салерно. — Пять или шесть человек во всем мире. Это составит меньше пятидесяти фунтов пепла у костра. Я сам видел, как таких людей превращали в ничто.
— Я не откажусь от этого! — в отчаянии страстно крикнул Бэкон. — Это было бы грехом против истины.
— Нет, нет. Пусть живут маленькие животные Варро! — сказал Фома.
Стефан наклонился вперед, вынул из кубка свой перстень и надел его на палец.
— Дети мои, — сказал он, — мы видели то, что видели.
— Что это не магия, а простое искусство! — настаивал монах.
— Это не имеет никакого значения. В глазах церкви мы видели больше, чем позволено человеку.
— Но это же сама жизнь, созданная и ликующая жизнь, — сказал Фома.
— Нас обвинят, что мы заглянули в ад, а это разрешается одним священнослужителям. Но священнослужитель не может видеть в аду больше, чем это ему разрешает церковь.
— Но ты же сам знаешь, знаешь — снова страстно заговорил Рожер. — Весь мир во мраке, никто не понимает причины вещей. Возьми хоть лихорадку там, в долине. Подумай только.
— Я думал об этом, Салерно! Я думал.
Фома поднял голову и заговорил, не заикаясь на этот раз:
— Как в воде, так и в крови они должны бороться и бесноваться. Я мечтал все эти десять лет и думал, что это грех. Но мои мечты и мечты Варро — истина! Вот тут, в наших руках, свет истины!
— Потуши его! Ты не легче, чем другие, вынесешь огонь костра.
— Но ты же знаешь! Ты уже видел это раньше. Ради несчастных всего мира! Ради нашей старой дружбы, Стефан!.. — Бэкон в отчаянии старался запрятать на груди аппарат.
— То, что знает Стефан де-Сотрэ, то знаете и вы, его друзья. А теперь я хочу, чтобы вы покорялись настоятелю монастыря Св. Иллода. Дай мне! — Он протянул свою украшенную перстнем руку.
— Но, может быть, я могу зарисовать хотя бы один только винтик? — сказал убитым голосом Бэкон.
— Ни в каком случае! — Аббат Стефан взял аппарат. — Джон, дай твой кинжал.
Он вывинтил металлический цилиндр, положил его на стол и рукояткой кинжала раздробил обе линзы в сверкающую пыль, которую собрал в руку и бросил в камин.
— То, что вы видели, — произнес он, — я давно видел у врачей в Каире. И я знаю, какие они познания извлекли отсюда. Ты мечтал об этом, Фома? Я — тоже, но с большими познаниями, чем ты. Но эти роды, сын мой, преждевременны. Это было бы матерью других смертей, пыток, раздоров и еще большего мрака в наш темный век. Я беру этот выбор на свою совесть. Идите! С этим кончено!
Он швырнул деревянные части аппарата далеко в камин, где они сгорели вместе с буковыми дровами.
227
Очерк П. ОРЛОВЦА.
Рисунки с натуры И. А. ВЛАДИМИРОВА.
Заводская атмосфера сразу охватывает, лишь только я вхожу за забор.
Путиловский завод!
Черные, закоптелые здания, кирпичные и железные, глухие и со стекляными крышами и стенами, так и лезут друг на друга, жмутся одно к другому. Огромные корпуса в два и три этажа, — в иных можно свободно разместить целый полк, — теряются среди площади, способной дать место провинциальному городку.
Утробы великанов с огненными внутренностями, переваривающие стальную, железную и чугунную пищу…
Десятки труб тянутся к небу, изрыгая черный дым, и темные клубы медленно тают в воздухе, заволакивая солнце, покрывая копотью строения и людей.
Рельсы двойными змеями извиваются между зданиями, забегают в них, выползают снова наружу и путаются кругом железной паутиной.
Черная земля, черные стены, черные люди…
Жаром пылает из раскрытых настежь дверей, и голубое, искрящееся небо как-то не вяжется с царящей внутри полутьмой.
Отчаянно свистят паровички, перетаскивая поезда груженых вагонеток, лязгают цепи, гремят лебедки, грохочут гиганты-молоты, беснуется в печах пламя и расплавленный металл. Одиннадцатитысячная армия рабочих рассыпана на территории завода. Одиннадцать тысяч пар рук, с утра до вечера, льют, топят, куют, прокатывают и перекидывают с места на место глыбы металла.