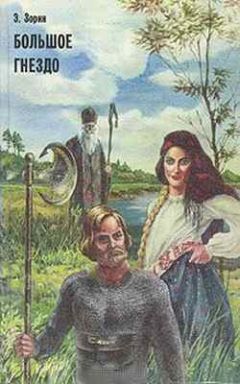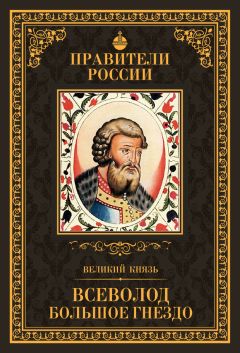Слабым кивком головы Елена подтвердила слова Палатина.
— Ты прибыл к нам со своей дружиной, у тебя храбрые воины, — продолжал Николай. — Помоги нам справиться с Мешкой, и тогда мы сможем помочь тебе.
Роман удивился:
— Разве палатину не известно, что Мешка мой друг?
— Он недруг твоей племянницы, — нахмурился Николай. — И, значит, тебе он тоже враг.
— Елена была его свояченицей…
— Но твоя жена тоже дочь великого киевского князя, — улыбнулся палатин, — однако это не помешало ему отнять у тебя лучшие города, а сам ты прибыл к нам просить помощи против Рюрика.
Николай был прав. Роман смутился и замолчал.
— Помоги нам, Роман, — сказала Елена.
«Всюду раздоры и скорбь», — подумал Роман, с участием глядя на племянницу. А маленький Лешка, её сын, резвится где-нибудь во дворе и не ведает о том, что стал причиной кровавой усобицы.
Но разве и сам Роман, когда еще был малолеткой, не был посажен на княжение в Новгород отцом своим Мстиславом? Разве не помыкали им бояре?.. До сих пор не стерлось из памяти, как выводили его на степень под знобящий гул вечевого колокола, показывали разъяренной толпе.
Забыть ли, как темной осенней ночью ехал он по раскисшей от распутицы дороге к отцу в Киев, оставив дружину, с одним только отроком, — трусливо, как загнанный охотниками варедной зверь? Как выбирал глухие места, боялся заезжать в деревни, жевал в лесу размоченные в горячей воде сухари, и плакал от бессилья, и клялся, взяв у отца войско, вернуться и отомстить тем, кто подверг его позору и унижению. Как оставил, у костра на мокрой попоне своего заболевшего спутника и не оглянулся назад, не согрел его прощальным взглядом и как встречал униженного сына разгневанный Мстислав, а мать утирала ему убрусцем мокрое лицо и громко причитала. И как после метался он из города в город, черствея душой и преисполняясь ненавистью к своим более удачливым сверстникам. Как сам стал жесток и неправеден, потому что мягкосердие и праведность рождали неудачников, а он был честолюбив и заносчив, потому что в жилах его текла гордая кровь его предков, привыкших судить и властвовать…
Не о клятве, данной изгнанному из Кракова Мечиславу, думал Роман, невпопад отвечая на коварные вопросы палатина. Клятвы дают и преступают их, когда это выгодно. Крестные грамоты рвут и бросают к ногам тех, кто нарушил клятву. Но небесные громы не низвергались на клятвопреступников, иначе не было бы уже на Руси князей.
Одного только страшился Роман: хватит ли силы у Елены справиться с Мечиславом? Потому что, ежели Мечислав, а не Елена одержит верх, то не только помощи не дождаться Роману, а еще обретет он у западных своих рубежей опасного противника.
Палатин Николай умел убеждать. Вкрадчивые речи его достигли цели. Роман поверил.
Если бы так же речист и настойчив был Мечислав, то, может быть, Роман поверил бы в Мечислава. И дружина, которую сейчас он отдал Елене, двигалась бы с Мечиславовым войском к Кракову, чтобы свергнуть Елену, и Елена, обливаясь слезами, ушла бы в монастырь или вернулась к своему отцу, а Роман, не вспомнив о ней, пировал бы под этими же самыми сводами, а палатин Николай сидел бы в темнице, закованный в железа.
Могло бы ведь и так быть? Но этого не случилось. И верх одержала Елена, и лицо ее уже светилось давнишней девичьей улыбкой, и Роман, отдыхая с дороги за пиршественным столом, с радостью узнавал в ней ту застенчивую девочку, чей образ сохранился в его цепкой памяти.
Не знал он, что в то самое время, как палатин поднимал оловянный кубок, наполненный красным вином, во здравие волынского князя, у краковского войта пана Дамазия сидел чернявый юркий человечек с собачьими, преданными глазами и пан Дамазий, морща лоб, наказывал ему гнусавым голосом немедля скакать в Мечиславов стан с грамотой, скрепленной большой восковой печатью.
Ни палатин Николай, ни Роман, ни Елена так никогда и не узнали, что было в этой грамоте, — не знал об этом и юркий человечек, спрятавший драгоценный свиток за опушку своей лисьей шапки.
Посланец войта не любил лишнего шума и посторонних глаз: он вышел из Вавеля потайным ходом, вскочил за городской стеной на оседланного коня и, тронув его, тут же растворился во мраке.
Утром Мечислав уже знал об измене Романа и, приготовив войско, спокойно ждал волынского князя с дружиной.
3
Светало. Над Вислой еще клубился туман, а по мокрой от росы траве протянулись длинные тени. Солнце выкатывалось над лесом большим огненным шаром, лучи его коснулись вершин деревьев, заблестели в прибрежной осоке, посеребрили частые гребешки волн в реке.
Ночевавшие на берегу рыбаки, собравшись раскидывать невод, с удивлением прислушались к нарушившему утренний покой непонятному шуму. Вглядевшись в быстро редеющий туман, они увидели столпившихся на противоположном берегу всадников. По реке, высоко вытянув шеи, уже плыли кони, барахтаясь в скрытых под водой ямах, выбирались на отлогую песчаную косу и скрывались в березовом перелеске, подступившем с одной стороны к реке, а с другой — к дороге, ведущей на Краков. Сквозь плеск воды доносилось бряцанье снаряжения и оружия, тихие голоса, треск ломаемых в перелеске сучьев.
Бросив бредень и спрятавшись в высокой траве, поднявшейся на низменном берегу реки, рыбаки пролежали так около двух часов, наблюдая за переправляющимся через Вислу войском.
— Иезус-Мария, — вдруг прошептал побледневшими от страха губами Юзик, у которого на лугу осталась расседланная лошадь. — Пропала моя кобыла. Что скажу я пану Игнацию?
— Молчи, — ткнул его локтем под бок перепуганный товарищ. — Был бы сам жив. Не то увидят, тогда обоим несдобровать.
— Да как же я без кобылы? — удивился Юзик. — Все равно что без рук. Пусть лучше отрубят мне руки, но оставят кобылу. Что ты такое говоришь, Стась?..
— Заткнись, — сказал сквозь зубы Стась. — А не заткнешься, я сам заткну твою поганую глотку. Или забыл, как повесили Паневку, когда проезжал по нашей деревне тот толстый лавник из Севежа?
— Как не помнить, — стуча зубами от страха, пролепетал Юзик.
Синее лицо повешенного стояло у него перед глазами. А еще вспомнил Юзйк, каким веселым парнем был Паневка и как любили его девчата. Из-за одной из них, голубоглазой вертихвостки Амальки, он и угодил на осину. Приглянулась Амалька лавнику, — ну и бог с ней, — а Паневка стал дерзить, схватился за топор… Этак-то у кого хошь лопнет терпение… Мать после долго убивалась по сыну, а Амалька уехала с лавником. С тех пор ее больше не видели в деревне.
Что-что, а на осину Юзику не хотелось. Вспомнить жутко, как раскачивал ветер задубевшее тело Паневки, как поскрипывал сук, а ночью завывали под ним, вскинув острые морды, оголодавшие за зиму волки…
И все-таки кобылу Юзику было жаль. Как прокормить ему без кобылы большую и вечно голодную семью? Семь ртов, не считая самого. Стасю легко говорить, у него жена толста и бесплодна, а у Юзика ребятишки каждый день просят хлеба, и у жены снова брюхо лезет на нос.
Но товарищ его, наверное, все-таки был прав. Там, где много панов, Юзику делать нечего. Паны дерутся что ни день, забот у них не счесть: не успеет один пан покончить с соседним паном, как друзья соседнего пана, собравшись вместе, едут уже к нему, сжигают его усадьбу, забирают урожай и насилуют в деревне девок…
Много, ох как много войска переправилось через Вислу!.. Значит, опять паны в ссоре, значит, снова уходить крестьянам в леса, спасать свой скудный скарб. Хорошо хоть, что деревня Стася и Юзика на другом берегу. Смилостивилась хоть на сей раз пресвятая дева Мария, пронесла беду стороной.
А кобыла у Юзика пропала; ему уже казалось, что он слышит ее жалобное ржанье.
Стась тоже услышал ржанье. Но это была не Юзикова кобыла, это ржали совсем другие кони. Их было много, этих коней. И скоро топот сотен копыт сотряс под мужиками землю. Началось.
Выползли мужики, крестясь, из-под берега на пригорок, и Стась, встав на коленки, закричал от ужаса.
Две лавины схлестнулись на краковской дороге. Рухнула тишина. Звон мечей о кольчуги, скрежет, глухие удары, стоны, пыль до небес, а в пыли — ощеренные конские морды, окровавленные лица.
Померкло солнце над Вислой, темно стало, как перед грозой. Схватился Юзик за голову, зажал уши, ткнулся лицом в траву.
— Господи, господи, — шептал он.
Все было, дрались паны друг с другом, но прожил Юзик на этом свете ни много ни мало — сорок лет, а о такой лютой сече даже от бывалых стариков не слыхивал.
Время от времени вырывались из пыльного облака обвитые белой пеной кони без седоков, время от времени выползал окровавленный воин дыхнуть свежего воздуха и, разинув рот, оставался неподвижно лежать на берегу реки.
А потом крики стали еще громче, скрежет железа о железо рвал уши, потому что битва приближалась к Висле, и Юзик со Стасем, вскочив, пустились наутек к своим спрятанным в кустах лодкам. Быстро смотали бредень, взялись за весла и торопливо погребли к своему берегу. Вовремя надоумила их пресвятая дева Мария: на середине, оглянувшись, увидели они, что на том самом месте, где только что оба прятались в высокой траве, метались люди, размахивая руками, а воины в высоких шлемах били их по головам и по плечам мечами, пронзали копьями корчившихся на земле раненых…