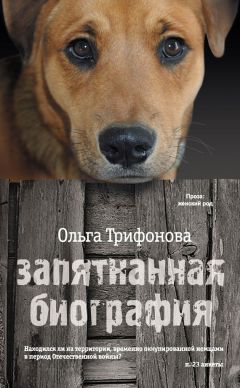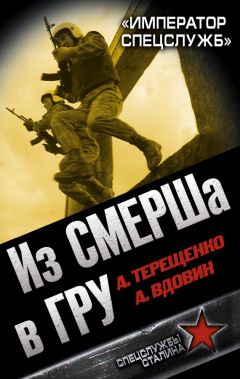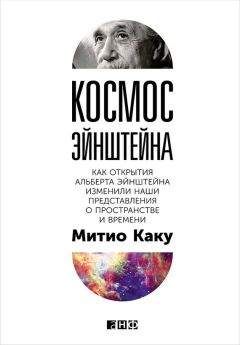— Сейчас ведь апрель, — всхлипывая, повторяла Цепора, только апрель, это же так трудно достать в вашей северной бедной стране.
Конечно же она помнила, что любит Цепора. Цепора была замечательной секретаршей, она интуитивно чувствовала, какой звонок очень важен, а какой — не очень, в каком случае надо слать телеграмму в Саранак, а в каком можно дождаться возвращения начальницы.
И самое главное — с особым почтением относилась к звонкам и визитам вице-консула Петра Павловича. Он появился в сорок первом вместо высланного — восточного облика, с грустными бараньими глазами.
Цепора явно неровно дышала к этому парубку с белозубой улыбкой, с густыми волнистыми волосами и раздвоенным подбородком.
Да и не мудрено. Петр Павлович был сама открытость, само обаяние. Генрих тоже полюбил его и даже брал с собой на «Бродягу», тем более что Петр Павлович замечательно управлялся с парусом и умело разжигал костер, ведь родился он в Кронштадте.
Он был умелым заводилой, в этом ему отказать было нельзя.
Удивительно компанейским человеком был вице-консул, очень красочно рассказывал о ловле судаков в белые ночи на Финском заливе, и как красиво вырисовывается в дымке форт Константин, и как перламутром переливаются воды залива. Когда через много лет они с Деткой отдыхали в Комарове, она вспоминала Петра Павловича. Она вообще вспоминала его часто, но не всегда добрым словом.
«У него лицо человека, внушающего доверие», — говорил Генрих. Угадал! Петр Павлович в октябре сорок пятого взял их паспорта — советский Детки и ее американский, чтоб поставить визы, и вернул два советских. На ее вскрик — «Но ведь у меня американский паспорт, верните мне его» — ответил легко, с улыбкой: «Да зачем он вам!»
Мышеловка захлопнулась.
А тогда, целых три года, он иногда ездил с ней на Саранак. Просил остановиться всегда в одном и том же придорожном кафе на Восемьдесят первой, чтоб выпить кофе, и всегда посещал туалет, хотя от Нью-Йорка отъехали всего миль на тридцать. Зато дальше всю долгую дорогу кофе не пил и в туалет не просился.
Теперь она открыто говорила, что едет к Генриху, ведь у них было общее дело.
Она так быстро освоила искусство вождения, что не только Криста и Глэдис были удивлены, но и Конрад, а ведь он в студенческие годы подрабатывал таксистом в Нью-Йорке и ездил профессионально. Все дело было в том, что сбылась ее давняя сокровенная и, казалось, недоступная мечта — водить автомобиль, и только Генрих знал, какое наслаждение испытывает она, сидя за рулем.
Иногда она выезжала поздно, после работы, и тогда, чтобы не будить обитателей коттеджа номер шесть (там ложились рано), останавливалась на ночлег в отеле «Пойнт», шикарном отеле, построенном Рокфеллером. Там уже привыкли к тому, что ее любимыми номерами были «Делавэр», оформленный в староанглийском стиле, и «Ирокез» — огромный, с каменным очагом.
Она не транжирила деньги комитета, хотя имела право время от времени оплачивать свою командировку, так сказать, к руководителю фонда. На свою зарплату она могла позволить себе маленькие причуды, тем более что и здесь, зная о ее дружбе с Генрихом, делали большую скидку.
Если же в пятницу засиживалась в офисе слишком долго или посещала какой-нибудь прием, а это бывало часто, то выезжала совсем-совсем рано.
Нью-Йорк потягивался и позевывал после бессонной ночи. Сквозь окна баров и забегаловок виднелись неподвижные силуэты ночных посетителей, у подъездов шикарных ресторанов и гостиниц, как морские львы, лоснились дорогие автомобили.
С Пятой она сворачивала на Четырнадцатую стрит и через несколько минут оказывалась на набережной Северной реки в районе пятьдесят седьмого причала и дальше — по набережной на север.
Главное чудо ждало очень скоро: как только кончались предместья, начиналась другая Америка.
Обычно летом по утрам стояли густые туманы. Нет, они не были густыми, они были текучими и то уплотнялись, то чуть рассеивались, и тогда проступали фермы, коровы, ночующие в загонах лошади… Потом впереди и сверху появлялось слабое сияние, это всходило солнце, но уже в мире скал, темных елей, водопадов и горных речек. Она ехала медленно, и не только из осторожности — видимость была совсем ничтожная, — она наслаждалась дорогой, тихим движением, игрой красок. Она ощущала такую полноту жизни, какой не знала и в молодости. «А ведь тебе почти пятьдесят», — сказала однажды громко.
Теперь она брала уроки верховой езды, ее ноги стали крепче и сильнее, осанка еще более величественной, и, конечно, замечательной тренировкой было плавание под парусом на «Бродяге». Она уже наизусть знала все заливы: Чистый, Водопадный, Квадратный, Затопленного леса, Залив Купера, Длинный, Сосновый… Она помнит все названия. Некоторые, как Сосновый и Затопленного леса, они присвоили заливам сами.
А если день был не очень жарким, брали байдарку. Тоже хорошая тренировка: между Фладвудом и Заливом Роллинса был перекат, назывался Индейские пороги, там метров двести приходилось тащить байдарку волоком.
Вечерами Эстер работала с почтой, Мадо перечитывала свою любимую Джейн Остин или Шарлотту Бронте, а Генрих Марте и ей читал Геродота.
Марта приехала в тридцать девятом, и она полюбила ее сразу. Кроткая, деликатная и при этом очень остроумная, она так спокойно восприняла двусмысленную ситуацию в доме брата, будто именно это и ожидала найти в далекой Америке.
А может, и действительно ожидала чего-то похожего, или он предупредил ее в письме, они были очень близки.
Они с Генрихом тоже были очень близки. О чем только не переговорили, мотаясь по заливам и озерам: о женщинах, о его женах и сыновьях, о городе на Каме, где она выросла, о разных забавных происшествиях, случавшихся в его жизни.
Километрах в трех от коттеджа из песчаного склона, поросшего соснами, бил родник. В их добровольную обязанность входило приносить оттуда воду.
И каждый раз она говорила, что этот склон и сосны, и лесистые холмы напоминают ей берега Камы. Она знала, что его не раздражает то, что она говорит одно и то же, наоборот, всякий раз он выспрашивал новые подробности о жизни в далеком неведомом провинциальном городке.
Она любила рассказывать о своих родственниках.
— Мой дед — купец первой гильдии — торговал мануфактурой и был городским головой и церковным старостой в Покровском соборе. Много и щедро жертвовал. Умер в год моего рождения, и я его не помню, а вот дядю Павла Андреевича помню хорошо. Высокий, красивый, с благородными чертами лица, всегда очень элегантно, даже щегольски одетый. Я мечтала, что, когда вырасту, выйду замуж именно за такого мужчину.
— Обидно. Я — полная противоположность.
— Почему же? Ты бываешь очень элегантным, на фотографиях времен твоей первой женитьбы — просто красавец и фат, впрочем, во времена второй тоже…
— Продолжай про дядю.
— Он был замечательный рассказчик. Много повидал, потому что занимался сплавом леса и нажил огромный капитал. В городе он устроил водопровод, электричество… Мы жили на Большой Покровской возле собора. Стала, конечно, улицей Труда, хотя трудиться теперь там не очень любят.
— А как же все успехи? Индустриализация?
— Так же, как пирамиды в Египте, наверное.
— Ты не очень любишь новую власть? Ты — белогвардейская, тебе нельзя возвращаться.
— Я и не думаю. Для кого-то эта власть стала избавлением от унижений и бедности. Но какой ценой! Наш город — глубокая провинция. Единственно, чем он славился, — отличными кожами. Обувь всегда была хорошей, а наряды — провинциальными.
— Откуда же у тебя вкус?
— Разве ты замечаешь мои наряды?
— Пожалуй, наряда не замечаю, но общее впечатление премьеры есть. Впрочем, ты всегда как премьера. Элеонора тратила бешеные деньги на тряпки и всегда выглядела или плохо одетой, или переряженной… И что было в глухом городе, кроме кож?
— Да все было! А главное — была осмысленная жизнь. Богатые жертвовали. Начиналась новая жизнь, новый этап в истории, но кого-то это не устраивало.
— Может быть, тех, кто не хотел, чтобы их благодетельствовали, не хотел жить в богадельне и есть в бесплатной столовой? Они хотели равных прав.
— Равных прав не бывает, и ты это знаешь.
— Да. Человеческое сообщество устроено плохо. Каждый ищет своей жалкой сиюминутной выгоды и не желает подчинить себя благу и процветанию всего сообщества, к которому принадлежит… Имущие классы готовы ухватиться за все, что помогает им в борьбе против скуки… Несчастен тот мир, где таким людям позволяют играть первую скрипку..
— Ты говоришь об Америке. А какие имущие классы в Советском Союзе, кто там играет первую скрипку?
— В мире не должно быть бедности. Я знаю, что это такое. Мы с моей первой женой почти нищенствовали… И все же я никогда не жаждал привилегий. Привилегии, основанные на положении в обществе или на богатстве, кажутся мне несправедливыми, как и любой культ личности. Но Элеонору очень радовали привилегии.