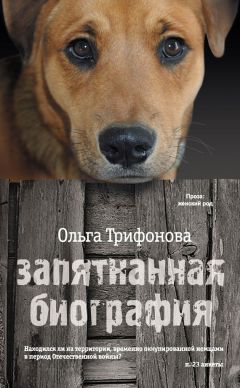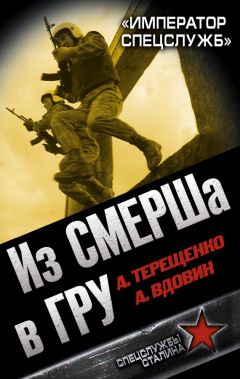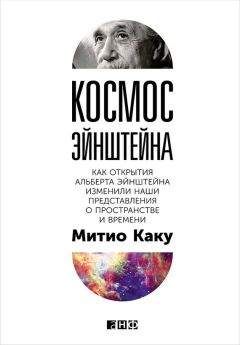Правда, Генрих говорил, что в молодости они бурно ссорились, но это давно прошло.
Вечерами он читал ей и Марте Геродота, и для Марты это были лучшие часы не потому, что так уж увлечена была Геродотом, а потому, что вместе и будто бы наедине с братом. Возлюбленная не разделяла, не была преградой, для Марты они были одним целым. В характере этой женщины, так похожей внешне на Генриха, была удивительная смесь доброты и твердости.
Она никогда ни в чем не подозревала людей. Верила сразу и навсегда.
В самые мучительные месяцы перед отъездом, когда Мадо избегала смотреть на нее, чтобы не выдать радости, а Эстер, наоборот, глядела прямо и с торжеством, одна Марта жалела ее. На память сделала аппликацию — парусник в бушующих волнах, и это своими узловатыми, изуродованными артритом руками!
Марта бледно улыбнулась им и ушла к себе. У нее при перемене погоды бывали тяжелые приступы мучительной мигрени.
Хотелось пойти за ней, пожалеть, помочь, но в этом доме помогать можно было только если попросят.
Генрих заметил ее порыв и, может, поэтому, когда она стояла у окна и смотрела на осенний безнадежный дождь, подошел сзади, обнял за плечи и произнес тихо:
День осенний тает, тает,
Дождик плещется как прачка,
А по дворику гуляет
Вся промокшая собачка.
Мокнут галки на берёзке,
Под крылечком мокнет кошка.
И, глотая грустно слёзки,
Плачет бедная Маргошка,
Глядя грустно из окошка.
Нет, это было в сорок первом, осенью, и она плакала, предавая его. Предавая вместе с темными пирамидами елей, с оранжевыми соснами, замшелыми дубами — со всем этим миром, который чудесным образом возвращал ее в детство, который подарил ей и жизнь, и слезы, и любовь. Крокодиловы слезы!
Да, был кризис, тупик. Детка там, в Нью-Йорке, без дела, без денег. В России война. Она в доме, где две женщины ненавидят ее, хотя умело это скрывают. Ею управляют, так сказал Бурнаков, как незаметно и ловко он обрел над ней власть… И никакого просвета впереди. Она никогда не бросит Детку, и Генрих никогда не женится на ней, он слишком дорожит своей свободой и одиночеством.
Есть замечательная песня у одного ленинградского певца, когда еще могла передвигаться, купила пластинку, и там есть песня, как это? «Прекрасны волосы твои, но одиночество прекрасней», вот и у нее были прекрасные золотые волосы, Генрих любил их перебирать и заплетать неумело в косы, любил… но одиночество на них не променял бы…
Потом она сварила пунш с корицей, как он любил, и отнесла большую кружу Марте.
Марта сидела в кресле-качалке — большая, грузная, бледная. Голова туго завязана узким полотенцем.
— Может, сделаем уксусную примочку? — спросила, наклонившись.
Марта взяла ее руку и, умоляюще глядя блестящими чудными глазами, как и у брата, они, казалось, излучали свет, спросила:
— Мария, ты простила меня? Ты ведь не такая, как другие золовки, ты можешь простить меня за моего брата?
— Я простила, конечно, простила, — она поцеловала пухлую, в старческой гречке, руку Марты.
— У твоей сестры поднялось давление. Когда они вернутся, я съезжу за доктором.
— Она что, опять заговаривается?
— Да. Назвала меня Марией и просила прощения за тебя. Ты не знаешь, где Эстер держит горчичники? Я хочу поставить ей на затылок и на икры.
— Не знаю. Я ведь полный идиот.
— Перестань. Глупо было тебя спрашивать.
Пока она искала горчичники, вернулись Эстер и Мадо и занялись Мартой, а она ушла к нему в кабинет: трое на одну больную — это слишком.
Генрих сидел, укрывшись подаренным ею синим пледом. Вид у него был немного испуганный. И взгляд, и наличие пледа призывали к снисхождению. На коленях листки с немецким текстом.
«Пожалуй, на сегодня хватит рассказа об удочеренной малютке».
Но он сказал немного нервно.
— Томас Манн прислал мне первую часть своего нового романа. Называется «Доктор Фаустус», замечательно написано, я как раз читаю главу о любви героя к сербке. Какое совпадение! Марева — сербка. Мрачная, немногословная. Подозрительная, депрессивная, но в ней тоже была тайна. Та история, о которой я рассказал тебе сегодня, сломала ее. У нее хрупкая психика, ее сестра настоящая душевнобольная. Правда, очень веселая. Слишком веселая, неуправляемая. Всю жизнь провела в больнице для душевнобольных. Я уверен, что болезнь Эрнста от Маревы. Она написала, что он очень прилежно работает в саду клиники. Санитары напугали его, предупредив, что, когда русские оккупируют Швейцарию, они всех, кто не работает, убьют.
— Какая чушь! Почитай мне Манна.
— Почему ты не спрашиваешь, кто такая Мария?
— Ты сам расскажешь, если захочешь.
— Сегодня странный день. Недаром у Марты поднялось давление. У всех гуляют нервы, хотя погода не для прогулок. Юношей я жил в Аарау, в Швейцарии. Оазис в оазисе. До немецкой границы можно было дойти пешком. Мы с моей первой любовью Марией играли в лугах и дуэтом. Я — на скрипке, она — на фортепьяно. Нам было по восемнадцать, для ее братьев я делал воздушных змеев. Один из них стал мужем Марты, а на сестре Марии женился мой лучший друг. В общем, как в считалке про китайцев: «Все они переженились…»
— А почему вы с Марией не поженились, раз уж как в считалке? Что произошло между вами?
— Ничего. Я уехал в Цюрих. Сначала писал, потом перестал. С ней случился нервный срыв.
— Ты встретил Мареву?
— Да. И знаешь, я не могу понять до сих пор, зачем я через два года пришел к ней в дом? Набрался наглости и пришел. Зачем? Ведь я причинил им горе. К счастью, Марии не было дома.
— Зачем Раскольников ходил к ТОМУ дому?
— Душа человеческая еще более непознаваема, чем вселенная.
— А что сталось с Марией?
— Она прожила очень несчастливую жизнь. Бедствует. Я посылаю ей немного денег. Элеонора очень злилась. Странно, ведь она была не злой женщиной, но умела устраивать жуткие скандалы. Противоположность Маревы, та, наоборот, могла неделями не разговаривать.
— Когда вы развелись?
— После Праги. Элеонора сильно напирала. И чего она добилась? Через два года у нас уже были разные спальни.
— Может, из-за твоего храпа? Ты жутко храпишь.
— Ты уже говорила. Нет, не из-за храпа. Элеонора сыграла огромную роль в разводе, то есть в том, как он был организован. Марева перехватила вполне невинное письмо одной дамы ко мне и написала ее мужу. Я был унижен. И тут меня пригласили в Берлин, и я уехал. Жил один. Элеонора на правах двоюродной сестры взялась меня опекать, приходила готовить. Мне это было совершенно не нужно: я готовил себе сам, но она приходила. Ей помогла моя болезнь, меня свалил дикий приступ язвы, потом желтуха, я похудел на двадцать пять килограммов, подозревали рак, не мог встать с постели, впал в депрессию.
— Ты?!
— Да, да. Это была самая настоящая депрессия, и Элеонора меня вылечила. Знаешь, эти ваши женские штучки — протертые супчики, слизистые каши, материнский уход…
— Это какой год?
— Семнадцатый. А что ты делала в семнадцатом?
Она засмеялась.
— Почему ты смеешься?
— В России это был главный вопрос на благонадежность: «Где вы были в семнадцатом и что делали?» В семнадцатом я тоже страшно похудела, но по другой причине. Начинался голод.
— Выходит, в семнадцатом все только и делали, что худели. Марева тоже похудела. У нее началась странная депрессия — она ничего не ела. А я считал, что она симулянтка и притворяется. Впрочем, эту мысль мне внушали Элеонора и мать, Мадо и Эльза молчали. Теперь я понимаю, как был жесток.
Марева, видимо, еще любила меня. Но Элеонора была хитрой, выхаживала меня, была неотлучно рядом, а потом сказала, что о нас ходят сплетни и что это повредит ее дочерям. В общем, я как бы был обязан жениться на сиделке потому, что ухаживала за мной.
Большинство женщин хитры и изобретательны, но совершенно лишены понятия метафизики. Впрочем, ваш рабочий центр находится не в мозге.
— Невысокого же ты о нас мнения. А вот Тигрик думает о нас иначе. Да, Тигрик? Иди ко мне.
Но кот вдруг прыгнул за чем-то невидимым.
— Коты часто выходят в другое измерение. Иногда Тигрик за компанию берет и меня.
— А женщины-ученые, они ведь другие?
— Я хорошо знал только одну — Мари Кюри. Она — единственная, кого не испортила слава.
— А тебя слава обременяет?
— Иногда — да.
— А если отрицают твою теорию, ты огорчаешься? Подержи нитки.
Он покорно расставил согнутые в локтях руки, чтобы она могла надеть на них моток шерсти и смотать его в клубок.
— Ну, много людей были против, и среди них истинный гений — Никола Тесла. Правда, он после каждого рукопожатия мыл руки, боялся круглых предметов и, по собственному признанию, состоял в романтических отношениях с голубем. Тогда я немного успокоился.