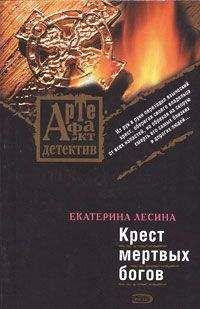и мыслей, что обозначаемы ими, но странно, мнилось, что и в бессвязной песне блаженного есть все, достигаемое болезненным чувством. Подобное состояние многообразно и ярко, в чем-то необычно, не похоже на то, что ощущалось раньше, и надо приложить немало нравственных усилий, чтобы хотя бы приблизиться к осмыслению этого. Но где взять силы? Что, как не сыщешь их? Вот и приходит тогда на помощь вроде бы бессвязная песня, нынче поменявшая в душе у блаженного и сделавшая ее сродни миру, что наполняет Тихончика добрым и теплым светом. Он пел, и разные видения вырастали перед ним, но не задерживались, быстро сменяли друг друга, так что он не сказал бы, что увидел, и что мог бы отметить из того, что увидел. Не было ничего определенного, что как-то вывело бы блаженного из душевного состояния почти покоя, почти совершеннейшего слияния с окружающим миром, а может, и с пространственностью, что начинается от него, а потом утягивается неизвестно куда, в какие-такие дали, огромная, верстами неизмеряемая, не принимаемая нашим рассудком, только чувствами, высоко над всеми нами, смертными, поднявшаяся, чудная в непознанности и постоянно влекущая к себе. Тихончик и это нынче ощущал, он как бы стал частью сущего, а значит, частью пространственности, было приятно чувствовать себя не кем-то в отдельности, а сколком огромного непознанного мира, который, впрочем, не пугает и слабого рассудком, напротив, помогает ощутить себя необходимым пространственности, той работе, что денно и нощно, невидимо людскому глазу, совершается вокруг нас.
Тихончик пел и Бог весть что и в каком цвете прозревалось им, они попеременно менялись и создавали в нем ощущение продолжительности и неуклоняемости в сторону от того, что жило в нем, отображаемое в песне. Он не видел только черноты ночи, для него не существовало цвета, который характерен для нее, как не существовало и белого цвета. И это хорошо. Он вряд ли справился бы с теми контрастами, что являют противоположные цвета, и жизнь для него, сойди к нему знание таких контрастов, стала бы труднее и горше.
Молодые люди услышали песню блаженного. Егор, не понимая, кто поет, слегка растерялся, но не хотел показать этого перед возлюбленной, она сама догадалась, стоило посмотреть на парня, слабо освещенного лунным светом. Впрочем, чтобы знать, что происходит с Егором, ей не обязательно видеть его, вот и нынче она почувствовала, что он смущен вдруг оборвавшей ночную тишину песней, и сказала:
— Это Тихончик… Я уже слышала, как он поет.
— А я и не знал…
Он и впрямь не знал и со все возрастающим вниманием прислушивался к песне, стремясь уловить в ней хоть какой-то смысл. На сердце у него накапливалось что-то похожее на легкое беспокойство, мало-помалу оттесняя ту сладкую щемоту, что вызывалась присутствием любимой, которая была для него больше, чем любимая, а еще и часть теперешней жизни, только рядом с Ленчей, а еще с братом он жил, без них все для него исчезло бы, и он стал бы другим, не тем Егором, о ком нынче думал, что тот счастлив, потому что не один, рядом с ним возлюбленная, а еще ощущение новизны и легкого беспокойства, что вызывается песней.
В иные минуты Егор принимал и тревогу, но легкую, словно бы со стороны пришедшую, не способную сделаться больше, она заставляла его отыскивать во всем недолговечность и жалеть, и удивляться: отчего в земном мире всему отпущен свой срок?.. Но он никому не говорил об этом чувстве, даже близким, точно бы стесняясь душевной неприютности, что вдруг появлялась в нем пускай и ненадолго. Он хотел бы казаться сильным и ни в чем не сомневающимся навроде Кузи, но вот беда — от желания до его осуществления — дорога не в одну версту.
Вот и нынче Егор, не умея уловить смысла песни, почувствовал томление, и уж не хотел ничего, как только слушать лесную песню. Ленча тоже ощутила томление и крепко сжала руку возлюбленного. Что-то удивительное, трепетное раскрылось пред ее внутренним взором. Словно бы раздвинулась темнота и впустила ее в сияющий коридор, освещенный большими белыми свечами. Однажды, когда была маленькой, она видела такие же свечи… в церковке, что стояла в ныне заброшенном селении, в семи верстах отсюда. Чуден сей коридор, вот идешь-идешь, а все нет ему конца и края, и свечи так же горят, и легкое колебание воздуха наблюдается в этом горении. Колебание вначале отчетливо, но, отдаляясь от свечей, уменьшается, слабеет, пока и вовсе не исчезает, хотя Ленче не хочется, чтобы так было, и она с напряженным вниманием следит за тем, как горят свечи, и прилагает немалые усилия, чтобы не отрывать от них взгляда и не переключить внимание на что-то другое. Впрочем, долго смотреть на свечи нельзя, глазам больно, и она невольно зажмуривается, все ж это лучше, чем наблюдать, как умирает колебание в воздухе. Вдруг Ленча замечает нечто такое, чего не должно быть, но почему-то есть, и совсем недалеко от нее, протяни руку и коснешься сего. Ой, что же это? Она спросила бы у отца, если бы знала, что он ответит. Но нет нынче и над собой ее власти, вот и стоит и, зажмурившись, смотрит, как с того конца коридора потекли густые толпы людей, да все с закрытыми глазами и с худыми лицами, такое чувство, что неживые люди-то…
«А мы и впрямь неживые», — сказал кто-то, проходя мимо Ленчи так близко, что она ощутила холод, исходящий от него, и хотела закричать, но и это оказалось неподвластно ей, чужая она и для себя, не принадлежащая никому, разве что им, мертвым. А те все идут по длинному коридору, идут, наполняя его тяжелым неживым духом, их много, странно и жутко похожих друг на друга; кто-то из них поднял на нее мертвые глаза и сказал, как бы отвечая на ее мысли:
— Да, нас много, так много, что и самих жуть берет. Ты чувствуешь, как утесненно в воздухе? Небось и дышать непросто, а? Так это все мы… мы… души наши…
Ленча побледнела и хотела бы что-то сказать, но что же скажешь, коль мала еще, неразумна, и не каждое слово, произнесенное ею, от понятия?.. Впрочем, отчего же так, ведь не та теперь Ленча, не мала и не в церковке об руку с отцом, одна, поднявшаяся посреди незнаемых ею людей, с тоской-болью в груди, с томлением, еще не понятым и ею самою и с видением пред внутренним взором, которое почему-то не уйдет, не оставит ее в покое.
В