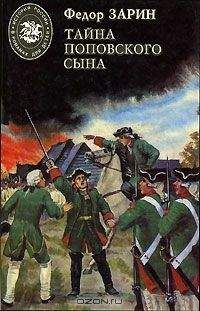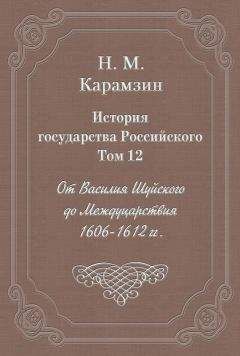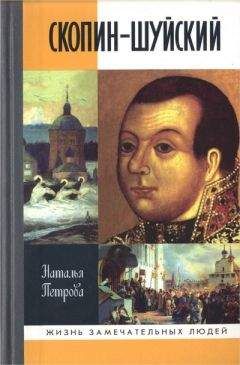— Ну перевел ты те бумаги, которые в тайнике взяли?
— Перевел.
— Можешь зачитать нам?
— Могу.
— Ну иди к свету.
Скопин-Шуйский подошел к столу, вытащил из-за пазухи бумаги, прокашлялся.
— Эти бумаги лежали в тайнике у самозванца, — пояснил он боярам. — Мы захватили в плен его секретаря Бучинского, ребята его хотели убить, он взмолился, что-де всегда мыслил против лжецаря и чтоб доказать это, пообещал отдать секретную переписку. Его привели ко мне, он показал мне тайник, где лежали эти бумаги. Все они были написаны на польском. Василий Иванович велел мне перевести их. Вот с помощью Бучинского я и перевел. Тут есть письма и договор «кондиции».
— Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Мстиславский.
— «Кондиции» между королем и самозванцем, как мне сказал Бунинский, секретные, о них из поляков знали только Мнишек и его дочь Марина. По этим «кондициям» самозванец в случае успеха обещал королю Смоленск.
— Вот сукин сын! — воскликнул Волконский. — Ты мне потом отдай эти «кондиции», князь Михаил, я ими короля к стенке прижму.
— Это пусть Дума решает, Григорий Константинович.
— Это само собой, — согласился Волконский.
— Слушайте дальше. Мнишеку были обещаны Северские города.
— Гля, какой щедрый, — покачал головой Мстиславский.
— А Марине Псков и Новгород.
— Вот же ворюга, всю казну на нее высыпал, так еще и Псков с Новгородом обещал, — не удержался Шуйский.
— Но этого мало, по «кондициям» он обещал всю Русь в католическую веру перевести.
— Э-э, значит, не зря мы его сковырнули.
— Василий Иванович, надо все это описать в грамотах, — предложил Мстиславский, — и разослать по всем городам.
— Это верно, — обрадовался Шуйский, понимая, что подписывать такие грамоты должен государь, а значит: «Ускорю венчание, никто не обидится».
— И еще, — продолжал Скопин-Шуйский, — там была переписка самозванца с папой римским и тоже касалась католической веры.
— В общем так, господа бояре, мы не зря, выходит, трудились, — подытожил Шуйский. — Отвели угрозу латынизации церкви. Правильно я говорю? — Князь обвел палату взглядом, но в ответ услышал из дальнего угла храп.
— Эй кто ж там храпака задал?
— То, Василий Иванович, дьяк Луговской притомился, — отвечал Телепнев.
— Так разбуди его.
— Не стоит, Василий Иванович, — зевнув, вступился за уснувшего дьяка Данила Мезецкий. — Уже вторые петухи пропели, всем бы нам пора на боковую.
— Ладно, шут с ним, пусть спит Томило Юдич, — согласился Шуйский. — Давайте решим, что делать с трупом самозванца и все на сегодня. Как думаешь, Данила Иванович?
— Я думаю, — сказал Мезецкий, — дни три пусть поваляется на площади, чтобы чернь утвердилась, что действительно мертв и не воскреснет. А потом привязать к лошади, протащить по всей Москве, вывезти за околицу, закопать без отпевания и могилу затоптать, чтоб следа от нее не осталось.
— Ну что ж, вполне разумный совет, — согласился Шуйский. — А как с Басмановым решим?
Едва заслышав о Басманове, поднялся с лавки Иван Голицын:
— Господа, прошу труп Басманова мне отдать, он мне брат сводный, и я должен озаботиться похоронами его по-христиански.
— Где ты хочешь положить его?
— На подворье Басмановых в церковной ограде.
— Ну что, господа бояре, я думаю, разрешим князю Голицыну похоронить своего брата, — сказал Шуйский, налегая на «своего брата» и в душе ликуя, что князь Иван, того не подозревая, увеличивал шансы Шуйского на престол: «Все. Спеклись Голицыны, кто ж доверит царство родне Басманова. Ай да, Иван Васильевич, вот удружил. Умница».
Уже через день на подворье князя Василия Шуйского собрались его братья, племянник Скопин и сторонники — Крюк Колычев, Головин, Татищев, Мыльниковы, Валуев и Пафнутий. Решался один вопрос — выборы царя. Наиболее решительно был настроен Михаил Татищев:
— Нечего нам ждать, когда со всей державы съедутся выборщики, выйдем на Лобное место, выкрикнем в цари Василия Шуйского и всего делов.
Для приличия кандидату полагалось поломаться, как в свое время искусно «ломался» Годунов. Князь Шуйский не стал исключением.
— Достоин ли я?
— Да ты что, Василий Иванович! — воскликнул Татищев. — Ты ж от Рюрика род ведешь, от Невского. Царство твое законное.
Шуйский догадывался, отчего так рьян в этом вопросе Татищев: «Отцовский грех замаливает». Еще при Годунове, когда судили князя Василия, именно отец Михаила Татищева, Игнатий Петрович, бил принародно по щекам Шуйского, срамя последними словами. Это Рюриковича-то!
Зато ныне и сын, и отец самые преданные сторонники князя Шуйского. Да и как забыть решительность Михаила, когда все висело на волоске перед грозными очами Басманова. Не убоялся зайти клеврету лжецаря со спины и ударить его кинжалом. Этот предан, как пес, к Голицыным не переметнется.
— Надо составить грамоту-обращение к народу, — предложил Скопин-Шуйский. — И честь ее с Лобного места.
— Правильно, Михаил Васильевич, — поддержал Татищев. — Садись, бери перо.
В составлении грамоты участвовали все. Ну ясно, по предложению Татищева начали от Рюриковича и Александра Невского, по подсказке Пафнутия навеличили Василия Ивановича страдальцем за православную веру, непримиримым борцом с папежниками и иезуитами, главным разоблачителем Гришки Отрепьева, незаконно захватившим московский престол.
Одно подзабыли составители грамоты, как этот «разоблачитель» всего год тому назад с Лобного места признавал Гришку за Дмитрия — природного сына Ивана Васильевича. А народ-то помнил, а народ-то не забывал.
Поучаствовал в грамоте и купец Мыльников, вписав в нее «о приязни и поощрении князем торговых дел на Москве и в державе». Даже Головин ввернул, что «с великим береженном князь относился к казне государевой». От такой похвалы было изморщился сам Шуйский:
— К казне расстрига никого за версту не подпускал. Всю растряс до копейки.
— Но, Василий Иванович, а не вы ли заставили его так называемую жену Марину незамедлительно вернуть казне все деньги и драгоценности, подаренные ей расстригой.
— Ну я, — смутился князь.
— Ну вот, стало быть, оберегали казну.
И все согласились с Головиным: был князь Шуйский и казны оберегателем.
После составления грамоты решили идти на Красную площадь все гуртом. Мало того, велено было и всей дворне — поварам, конюхам, стряпухам и лакеям следовать туда же. Их наставлял брат Шуйского Дмитрий Иванович:
— Смешайтесь с толпой, и как спросят с Лобного места кого в цари, вопите: князя Шуйского Василия Ивановича. Понятно?
— Что ж тут непонятного, мы за Василия Ивановича завсе, чай, он кормилец наш.
На Красной площади возле трупа самозванца народ толпился от зари до зари, чем-то притягательны мертвецы для живого человека, невольно где-то в глубине сознания мысль-червячок копошится: «не я, слава Богу».
И тут на Лобное место взбираются все князья Шуйские, митрополит Пафнутий, Татищев, купцы, и толпа туда невольно обращается, подтягивается поближе, знают, что-то важное будет сообщено. Вперед там наверху выдвигается Татищев.
— Люди православные, народ земли Русской, — громко возглашает Михаил Игнатьевич. — Нынче с милостью Божьей свершилось на Москве праведное дело, повержен в прах самозванец, расстрига и развратник Гришка Отрепьев. Вырвана из нечестивых рук держава и скипетр царский, испокон принадлежавший Рюриковичу племени. Приспел час передать державу законному наследнику и потомку легендарного Рюрика. Глас народа — глас Божий, кого бы вы, православные, назвали достойным сей великой стези?
— Князя Шуйского-о-о Василия Ивановича-а, — взревели голоса хорошо подготовленные и заглушили, смяли чье-то сиротливое: «Голицына!», «Мстиславского!».
Татищев продолжал как по писаному:
— Вот и бояре ж как один, как весь православный мир, назвали Василия Ивановича Шуйского и ему ж посвятили грамоту, которую я вам зачитаю, — и, вытянув грамоту, Татищев развернул ее и добавил голосу солидности и весомости. А закончив чтение, снова подвигнул толпу еще дружнее провопить:
— Шуйского-о! Радетеля нашего и защитника!
Татищев, обернувшись назад, нашел взглядом позади себя князя, ударил ему челом до земли:
— Василий Иванович, народ просит тебя принять скипетр и державу Российскую.
Шуйский поклонился на все четыре стороны, как год тому назад перед казнью, но слова уж другие молвил:
— Спаси Бог вас, православные… Буду править по правде и совести, без обид и несправедливостей.
Тут кто-то из толпы крикнул:
— Крест целуй, Василий Иванович! Крест целуй!
Подобная присяга, от древности восходящая, пришлась по душе Шуйскому, он сказал: