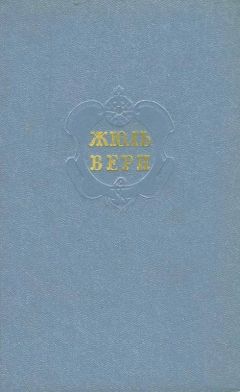худо, я хотел бы полежать в твоей комнате, – и обойтись при этом без вранья. Бабушка молча кивает. Большего мне не надо, смываюсь.
Марлен Дитрих спит стоя в своем картонном домике. Эмиль называет эту позу “статуей лунатика”. Все аисты так спят. Когда Марлен Дитрих умрет, из нее сделают чучело, и я смогу по-прежнему перебирать ее перышки и думать о волосах чердачной феи. За то время, пока я здесь, у меня здорово развилось воображение. Я научился мысленно играть в футбол, кататься на велосипеде вдоль моря, уплывать дальше лодок и целоваться с твоей ровесницей. А по ночам разговариваю с мертвой матерью и спящей аистихой.
Стучат. Я обернулся – кто-то просунул под дверь белый конверт. Шаги Эмиля – я узнал их – удаляются вниз по лестнице. Бережно, не спеша открываю конверт. Она и сейчас, когда тебя уже нет, подражает твоему почерку. Кладу письмо в карман и крадусь на чердак.
Не могу устоять, чтобы не снять ботинки и не пойти на носках. Приоткрываю дверь, лучи света изрезали кокон. Нет Сильвии, нет ночной темноты – чердак почти неотличим от подвала, только размером поменьше. Витает слабый аромат ее духов. Ваших с ней духов. Я сажусь, потом ложусь на кровать, укрываюсь и только тогда с бьющимся сердцем разворачиваю письмо.
Мой дорогой Мену!
Мне пришлось срочно уйти с чердака, пока не явилась милиция и не обыскала всю ферму. Рисковать и подвергать опасности жизнь всей семьи нельзя. Надеюсь, ты не станешь на меня сердиться за то, что я тебя не предупредила. Обещаю, мы увидимся, когда кончится война.
Храни этот флакон с духами, он принадлежал твоей маме.
Я прерываюсь на минуту – мне кажется, ты смотришь на меня. Да, мама, я первый раз в жизни напился, и чем же? – твоими духами. Не осталось ни капельки.
Нам помог один немец, Ганс. Ты его знаешь – тот коротышка, что покупает конфеты. Под прикрытием офицерского звания и мундира он спасает людей. Евреев, членов Сопротивления, противников нацистского режима. Этот потрясающий человек каждый день рискует жизнью. Он с самого начала знал, что мы тут.
Помни, что немцы проигрывают войну. Я говорю это не для того, чтобы подбодрить тебя, это действительно происходит. Мы близки к победе, это только вопрос времени. Наша обязанность – теперь и твоя на ферме – продержаться. После войны тебя ждет большая, прекрасная жизнь. Семья, дети, путешествия по свободному миру.
Ничто никогда не заменит тебе маму. Потерять маму – все равно что остаться без руки. Эта рука
не отрастет заново. Но у тебя найдутся силы сделать протез.
Ты должен стать алхимиком чувств. Научиться заново быть счастливым, другого выхода у тебя нет.
Снова складывая листок, я нашел на обороте стихи:
Мой гимн настоящему без границ,
Гимн счастью распахнутой настежь минуты,
Блаженству сорвать спелый плод и узнать его вкус,
Вкусить сладость неба со взбитыми сливками облаков,
Ведь правило жизни живой таково:
Помнить о прошлом, но не оставаться в тисках у него,
Из горечи бед и утрат извлекая бальзам
Для врачевания ран и напастей былых и грядущих.
Время настало, пора разбежаться и дальше,
Дальше, вперед!
Посмотри и увидь!
Гимн мой минуте, хвала настоящему, жизни сегодня.
Гимн мой весне, когда здесь и теперь навсегда,
Здесь и теперь все в движенье.
Я перечитал эти стихи три раза. Потом повторил про себя наизусть и заснул прямо там, на кровати у Сильвии.
Разбудил меня голос бабушки. “Все к столу!” – распевала она на весь дом. Я спустился в твою комнату, Марлен Дитрих, увидев меня, защелкала клювом.
Я бережно вложил письмо в конверт и спрятал в потайной ящик твоего секретера. Потом стал гладить аистиху, перебирать ей перышки.
– К стооолуууу! – снова запела бабушка охрипшей синицей.
Эта ее притворная радость невыносима. Искреннее горе было бы в сто раз лучше.
Сделаю вид, что ем, чтобы меня скорей оставили в покое и не мешали думать о Сильвии. Теперь, когда ее здесь нет, думать о тебе опять стало больно.
А как же папа? Хватает ему времени на воспоминания? Изменится ли он так же, как меняюсь я, когда вернется? Узнаю я его? Будет он весело шутить, как раньше, до третьего июня? Или так же смотреть в пустоту, завязывая мне галстук перед школой?
А он-то сам меня узнает? Будет меня, нового, любить? Как же мы будем жить с ним вдвоем и с твоим призраком? Может, надо будет открыть все окна в твоей спальне, чтобы он мог улететь? И держать их открытыми, чтобы он мог вернуться?
Поговорить бы об этом с Эмилем.
Фромюль,
15 декабря 1944
Мы все в подвале, разговариваем шепотом. Никто ни с кем не собачится ни по какому поводу, даже Иисуса Христа оставили в покое. Бабушка все чаще говорит о конце войны. Но пока еще небо грохочет. Сильно и недалеко. Сирена что-то опаздывает.
Эмиль зовет меня остаться здесь, если не так уж хочется обратно в Монпелье. Обещает устроить мне настоящую персональную спальню на чердаке, “с луной вместо ночника”.
– Я подарю тебе свой старый велик!
– А как же сам?
– Ты будешь мне давать покататься!
Бабушка все уговаривает нас не расслабляться:
– Немцы, конечно, проигрывают, но раненый зверь особенно опасен. Они еще могут наделать немало бед. Постараются уничтожить все, что успеют.
Фромюль,
21 декабря 1944
Опять приходили немцы за яйцами и курами. Один даже велел бабушке приготовить яичницу и сожрал ее, положив ноги на стол. Взгромоздил свои до блеска начищенные сапожищи прямо на стол!
Я был на лестнице, и меня трясло. Мучительно хотелось вцепиться ему в морду. Ты не представляешь себе, мама, как я его ненавидел. Никогда не подумал бы, что способен так ненавидеть. Сапоги на столе и еще то, как он жрет яичницу из яиц моей домашней курицы, – все это превратило меня в кого-то другого, каким я сам себя не знал.
Я попробовал телепатически передать Марлен Дитрих: “Лети, дорогуша, лети и насри на его дурацкую пилотку”. Я так и видел эту сцену, и только она помогла мне не ринуться на кухню и не вцепиться в морду немцу.
Но тут передо мной