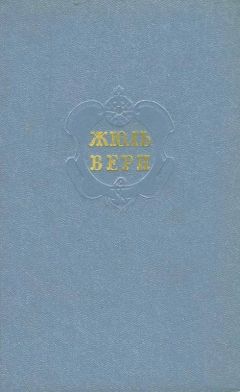возник Эмиль – видно, почуял, что я подглядываю. Посмотрел мне в глаза, приложил палец к губам и подхватил меня одной рукой. В эту минуту было бы правильней всего сравнить меня с мешком цемента. Эмиль не произнес ни слова до самого чердака, а там прошептал:
– Сиди тут и не двигайся с места, пока я за тобой не приду!
Киваю и сажусь на стул Сильвии, перед пишущей машинкой. На стенке приколоты кнопками клочки бумаги. Недописанные стихи, рисунки кораблей, что-то еще зачеркнутое. Я не читаю их, только трогаю кончиком пальца. На столе много сложенных из бумаги фигурок-гадалок. Не удержавшись, беру одну. На одном уголке нарисовано сердечко, на другом звездочка, на третьем луна, а на четвертом большими буквами написано “Эмиль”.
Снова складываю уголки и кладу квадратик на место. Заставляю себя не разворачивать. Досчитаю до ста. Если на сотый счет никто не придет, разверну.
Раз, два, три… Считаю медленно, но секунды несутся. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть… На лестнице ни звука. Пятьдесят семь, пятьдесят восемь… Нет, больше не могу. Разворачиваю листок. Как обертку подарка. Но подарок не для меня.
На лестнице шаги. До конца развернуть не успею. Читаю прямо так, глаза скользят по строчкам.
Дорогой Эмиль!
Я оставила тебе про запас десяток стихотворений для Розали в шкатулке под дубом. Написала их в последнюю ночь. Надеюсь, тебе хватит до конца войны. Если же нет, попробуй писать сам! Уверена, что ты сможешь. Не забывай, она любит тебя, иначе все эти стихи не подействовали бы. Это только трамплин, чтобы ты осмелел. Ты женишься на Розали, не сомневайся!
А если ты решишься сказать ей правду, будет совсем хорошо. Не думаю, что Розали тебя разлюбит, наоборот, будет любить еще больше.
Легче сказать, чем сделать. Легче сказать другому, чем сделать самому, это точно.
В этом была главная прелесть нашей дружбы с Элизой. Каждая участвовала в жизни другой. И мы целиком полагались друг на друга. При полном доверии, это отличная система.
Но видишь, я подталкиваю тебя, а сама так и не смогла сказать правду Мену.
Береги себя, его, свою милую Розали, Катрин и даже несравненную Луизу.
Целую.
Сильвия
Разглаживаю листок ладонью и кладу на видное место, прямо на пишущую машинку.
– Ушли! – с порога говорит Эмиль.
Лавина вопросов готова сорваться у меня с языка, но я не решаюсь обрушить их на него. Лучше пойти окольными путями. Мне необходимо узнать правду, но я слишком люблю Эмиля, чтобы подстраивать ему ловушки. Хватит того, что я прочитал адресованное ему письмо!
– Мне кажется, я становлюсь таким же, как тетя Луиза. Пишу маме, а ее нет в живых, разговариваю с аистом, выучил наизусть письмо Сильвии.
Эмиль берет мою руку и с умным видом щупает пульс. Валяет дурака, хочет разрядить тягостную обстановку шуткой, я это понимаю, но трюк все равно действует.
– Могу вас успокоить, молодой человек, вы не рискуете заразиться догматическим луизитом. У вас стойкий иммунитет против католико-вируса. Иное дело Сильвия. Она причина вашего сердечного недуга. Это пройдет. Или нет. Так или иначе, это приятная болезнь.
Рот у меня сам расплывается до ушей. Эмиль зеркально улыбается в ответ, потом вдруг подхватывает меня своими ручищами, прижимает к себе и долго не отпускает. Обычно, если он меня так сгребает, то тащит в подвал, как мешок картошки, а сейчас совсем иначе. Это самая настоящая ласка. Такое у нас не заведено. Мы любим друг друга не меньше, чем в других семьях, но телячьи нежности и обнимашки – не наши замашки.
Ручищи Эмиля – отличная люлька. Я чуточку всплакнул. Одну-две слезинки пустил, не больше. Мокрое пятнышко на его свитере у самого плеча. Высохнет быстро – он ничего не заметит.
Фромюль,
25 декабря 1944
Падает снег, и вата сугробов приглушает взрывы. Снегу нет дела до воя войны. Он убеляет все подряд, зону свободную и оккупированную, демаркационную линию посередине, ему все едино.
За окном словно огромный торт с белым кремом. Я страшно люблю снег. Само это мягкое слово, и кружево снежинок, и круговерть нежных хлопьев, запущенную чьей-то невидимой рукой на небе.
Помню, как я первый раз увидел снег в Монпелье. Ты показала мне, как он летит на море. И я спросил, бывают ли снежные волны. Ты потом долго улыбалась. А я воображал, как по пушистому снежному морю совсем бесшумно плывет корабль. Вот бы жить на таком корабле всей семьей!
Бабушка как-то раз сказала мне, что Битш, городок и окрестности, прозвали Малой Сибирью. Смотрю в окно и представляю себе, что я в какой-нибудь глухой сибирской деревушке.
Марлен Дитрих стала взрослой птицей, в ней почти метр роста. Иногда она очень тоскует по небу, хотя никогда его не видала. Порхает по комнате, натыкается то на потолок, то на окно. Тогда я беру ее на руки и перебираю ей перышки, а сам думаю о Сильвии. Успокаиваюсь от этого только я.
На днях бабушка придет открыть окно, чтобы проветрить комнату, и Марлен Дитрих улетит навсегда. Будет себе вонять под облаками и не вспомнит папочку, который кормил ее тухлым горохом.
Все семейство встречает Рождество в подвале. Пригласили и Розали. Все так, как будто меня приучают к тому, что, если папа не вернется, я останусь жить тут. Пахнет корицей, это напоминает мне прошлое Рождество. Не хватает только хвороста с сахарной пудрой, а то я бы и правда подумал, что время пошло вспять.
Тетя Луиза украсила гирляндами кротовьи холмики, а мне подарила свою Библию, несмотря на то, что все остальные Библии в округе сожгли немцы. Я тронут, но мне ужасно неловко. Для нее это драгоценная книга, а для меня она как телефонный справочник страны, в которой я никого не знаю.
Дядя Эмиль привязал ленточку к своему велику.
– Это подарок на будущее. Сможешь на нем ездить, когда нас освободят. А пока я буду иногда его у тебя брать напрокат.
Розали подарила мне бутылку гренадина. Эмиль шепнул, что это последняя из ее запаса. Он хочет, чтобы я полюбил Розали – что ж, из любви к нему я готов. Еще она принесла с собой шнапс, который пахнет сливой.
– Дед Мороз в подвал добраться не может, понимаешь?
Это бабушка входит с раскрашенными под елочные шарики яичными скорлупками.
Она воткнула в кротовую кучу ветку сосны, и мы все давай украшать ее кто