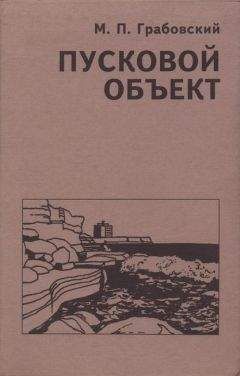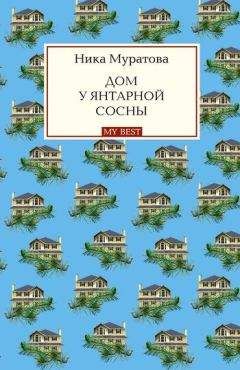— Бена-мать! Вот это да!
Он первым понял то, о чем другие еще не догадывались. Одна птица вдруг отделилась от уходящей стаи и камнем ринулась вниз, на людей. Нет, не на людей. Она упала шлепком, как-то неловко, на берегу нефтяного пруда, почти рядом с дохлой. Не убилась, а поковыляла к той, неподвижной, черной. Потрогала ее клювом несколько раз. И легла рядом, в нефтяную лужу. Бок о бок, склонив шею. Ребята бросились было шугать ее, дуру.
— Не трогайте ее! Не надо! — остановил их окриком Базарбай. Потом тихо добавил:
— Не видите что ли, Бена-мать? Она сама хочет умирать вместе с ним.
Все застыли в нерешительном ожидании
— Чего стоите? Театр, что ли? — Базарбай сердился неизвестно на кого. — Идите обтирайтесь тряпками — воды нет.
Но тут же смягчился, осознав несправедливость своего раздражения:
— Спирт зато есть. Всем по сто грамм дам. Сегодня вечером будем отдыхать. А завтра — всю территорию убирать: трубы, доски, струмент всякий…
И пошел, опустив голову, в свой вагончик, чтобы достать из-за лежанки маленькую канистру из нержавейки с техническим спиртом. Это был его личный НЗ, но сегодня ему почему-то хотелось быть щедрым. Ребята с удовольствием шумели в своих вагончиках до поздней темноты, выпив первым тостом за своего Бабая. А самому бригадиру не спалось в эту ночь. Он оделся потеплее и вышел посидеть на камешке, пытаясь уразуметь своим умом, кто же это добровольно упал с неба в руки смерти: Шарифа или Балия?.. Базарбаю только исполнилось восемнадцать лет, а Шарифе и того не было. Она выступала иногда в самодеятельности при рабочем клубе имени Ералиева. Женщины-казашки еще не решались ходить в клуб, а Шарифа не стеснялась появляться на сцене в национальном костюме, с малиновым и зеленым орнаментом, и с домброй в узких руках. Базарбай сравнивал ее с веткой сирени, потому что никогда в жизни не видел, как цветет сирень. Отец Шарифы, Ержигит Урисбаев, руководил партийной ячейкой на промысле и слыл красным помощником директора. В поселке его вслух уважали и боялись. А старики его тайно недолюбливали за то, что забыл старые обычаи и говорил чужие слова. Когда Базарбай познакомился с Шарифой в клубе, она все время стеснительно улыбалась ему губами и очень смущалась. Базарбай мечтал остаться с ней наедине и рассказать подробно о ветке сирени. Но когда они однажды вечером вышли вместе из клуба, случайно сделали по дороге небольшой крюк, и оказались в степи, далеко за поселком, он нечего не мог говорить своим засохшим языком. Они стояли в степной тишине одни в целом мире. Он обнял ее на всю жизнь, а она вся дрожала в его руках. Дрожала и молчала от страсти. А через день Шарифа исчезла из поселка. Одни говорили, что отец отправил Шарифу по ее же просьбе в Алма-Ату для продолжения музыкального образования и развития таланта. Другие говорили, что кто-то видел, как ее увозили связанной с кляпом во рту два брата Ержигита.
Базарбай набрался храбрости и пошел в кабинет к товарищу Урисбаеву с законным вопросом. Тот посмотрел на него змеиными глазами и посоветовал, чтобы он забыл о Шарифе, и напомнил, что в степи бывают несчастные случаи. И с коня можно упасть. И позвоночник сломать. Базарбай вдруг ясно понял, что уже никогда не увидит своей Шарифы. И тогда поменял свой старенький домик на хорошего степного коня и вместе с ним ушел рабочим в поисковую группу нефтяников, чтобы быть поближе к соленой земле и подальше от людей, особенно больших начальников. С тех пор и ходил около тридцати лет с разными бригадами. Сколько всего перевидал за это время… Но ветку сирени так ни разу и не повстречал. Один раз только шевельнулось что-то в его засохшем сердце. Уже за тридцать пять было тогда. Встретил в ауле, который находился в трех километрах от буровой, тихую дурочку Балию. Не от мира сего. Над ней взрослые насмехались, дети дразнили. Старухи немного боялись как худого знамения. Базарбай часто ходил в поселок за махоркой и залежалыми сигаретами. Встретил около общего колодца. Она первая сказала: „Здравствуйте”. Он решил всегда в это же время подходить к колодцу: вдруг и она придет. А она-то приходила каждый день. Базарбаю показалось, что это вторая судьба, что Балия — хорошая и безобидная. Только больная от рождения. Она рассказала, что родилась в Чимкенте и воспитывалась у бабушки, которая в детстве подарила ей книжку со стихами Пушкина. А сейчас она вечерами, при керосиновой лампе, пробует перевести их на казахский язык. Но у нее плохо получается, слов не хватает в голове. Базарбай пожалел ее и решил полюбить, потому что никто ее не любил в целом свете. Он продал материнский пояс с царскими серебряными монетами и отцовский кинжал, чтобы были деньги на свадьбу. Пока Базарбай размышлял о том, как пристроить Балию рядом с собой в кочевой жизни, она возьми да и умри от своей болезненной слабости. С тех пор Базарбай больше ни в кого не влюблялся. Как он обходился долгие годы без женщин в своей кочевой жизни, не знал никто. Только он сам. Со стороны казалось так: привык Базарбай за долгие годы к вагончикам, буровому оборудованию, запаху нефти, звуку тарахтящих моторов тракторов и грузовиков, — чего ему еще надо? По его безмятежному лицу в мелких морщинистых трещинах, по глазам-щелкам, ничего не выражающим, трудно было судить о внутренних страстях и раздумьях. А в последнее время он действительно начал привыкать к однообразным сменам дня и ночи, зимы и лета. Утекает куда-то жизнь, все быстрее и быстрее, торопится… Базарбай подумал о том, что он сейчас завидует тем двум птицам на берегу. Зависть схватила буквально за горло, начала душить. Решил, пойду-ка посмотрю на них. Дошаркал до котлована. Зажег сдвоенную спичку, чтоб поярче было. Темный бугорок из двух черных птиц не шевелился. Базарбай вернулся, вытащил старые кошмы, укрылся потеплее и снова закурил на своей любимой скамеечке…
Мертвая тишина вокруг, доисторическая… Мертвая пустыня… Нет, вот это неправда. Пустыня только кажется высохшей и безжизненной. Это ведь не Сахара с голыми песками. Базарбай больше любил слово „степь”. Как красиво цветет она голубым цветом в начале мая! И сколько в ней неисчерпаемой таинственной жизни, невидимой для равнодушной души! Базарбай знает: если лечь на теплую землю и сковырнуть любой засохший коркой бугорок земли, то глазу представится поразительная жизнь. Тысяча мелких букашек, усатых червячков, извивающихся многоножек спешат там, в земле, по каким-то своим, домашним делам. И все они радуются своему существованию и продлевают его рождением потомства. Живут и продлевают свой род. Только у Базарбая не получилось… Луна рассыпалась мерцающими бликами по черной поверхности пруда. Печально сияли звезды… Сияли звезды… Звезды.
1999 г.
От аэропорта в пустыне до города Шевченко на берегу лазурного Каспия двадцать три километра по бетонированному шоссе. Вокруг — древняя земля Мангышлака. Этот край называют краем „тысячи зимовок». Самолет из Москвы прибывает в аэропорт рано утром. Вокруг — туман, еще белесый, державное безмолвие однообразной желто-серой степи. По обочинам шоссе тут и там угадывается таинственный силуэт „корабля пустыни”. Это пасутся нары — выносливые одногорбые верблюды. Они с философским спокойствием жуют скудную пыльную траву и колючки, высокомерно поглядывая на проносящиеся автомобили. Точно так же паслись в этих местах их предки тысячи лет назад; им нет нужды менять свои привычки. Через несколько минут перед взором путника слева от дороги выплывает из тумана, как мираж, сказочный город мертвых. Это — старинный некрополь небольшого казахского поселка Ак-Шукур. На переднем плане видны древние каменные надгробия, саганатаны и кулаптасы, изъязвленные песчаным ветром, с сохранившейся кое-где арабской вязью. Обрывки мудрых изречений. „…Если вам будет очень плохо, ищите помощи у лежащих в этих могилах”. На заднем плане — современное кладбище. Невысокие каменные надгробия — мазары и настоящие мавзолеи из местного ракушечника, с куполами и полумесяцами, украшенные ярким бисерным восточным орнаментом. И среди всех этих молчаливых и скорбных памятников один выделяется своим величественным куполом и розовым цветом ракушечника. Он окружен тяжелой металлической цепью. На цоколе купола выложены четыре заглавные русские буквы: „Д”, „У”, „С” и, несколько поодаль — „Я”. В усыпальнице всегда стоит вазочка с цветами или сухими веточками. От этой могилы веет какой-то священной тайной.
* * *
— Тарас, — произнесла с недоумением старшая медсестра Евдокия Мироновна Колпина, — а чего это тебя, такого узкоглазого, Тарасом назвали?..
Девятнадцатилетний сержант после коленного пулевого ранения валялся в углу палаты на металлической койке. Медсестра имела в запасе несколько свободных минут и хотела грубоватой шуткой отвлечь молодого казахского парня от удручающих мыслей.