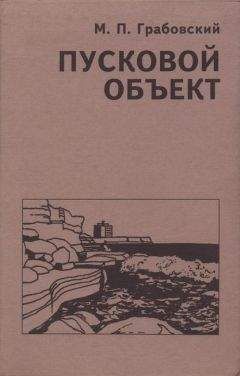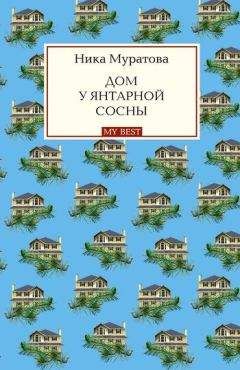— Много ты знаешь про любовь! — она распрямилась, потянулась локтями, выпятив грудь. — Ладно, приду завтра дослушивать. Пока.
Потеребила его жесткие волосы небрежным жестом и ушла.
Раннее утро застало ее у дверей майора.
— Ты что ко мне в такую рань прибежала? Я еще не видел его ногу! Понимаешь, не видел!
Потом посмотрел на медсестру, с которой проработал три года, удивленным новым взглядом, как будто впервые столкнулся с ней:
— А ты, чего, Колпина, разнервничалась так? Никак, влюбилась в джигита?
— Ну вы уж скажете, Валентин Иванович, — засмущалась Евдокия Мироновна. — Прямо уж влюбилась… Просто жалко паренька.
— Ну-ну. Всех их жалко. И тех, что полегли, и тех, что живыми остались по случайности… Через два часа скажу тебе точно.
— Про что скажете? — встрепенулась задумавшаяся медсестра.
— Да про ногу твою скажу.
— А, про ногу. Конечно. Это хорошо.
Никогда еще за время войны Валентин Иванович не осматривал так долго и обстоятельно одного больного, как в этот день. Теперь не было нужды торопиться. Все! Война окончена! Теперь все можно делать не торопясь, в свое удовольствие.
— Ну что, Тарас, — произнес майор, складывая аккуратно очки в потертый кожаный футляр. — Считай, что тебе повезло. Хромать, наверно, будешь всю жизнь. Но… на своей ноге. Понимаешь?
— Спасибо, доктор, — прошептал Тарас. — Скажите мне ваш адрес, пожалуйста. Я, когда домой приеду, верблюда в подарок пришлю.
— Верблюда, говоришь? Какой добрый! Сначала ходить научись.
Вечером, чуть позже, чем положено по регламенту, когда оставили только ночник, Колпина осторожно скользнула между кроватями в привычный угол.
— Понял, Рахмет? Радуйся! Кричи на весь свет от радости. Хромой будешь! Просто хромой… и все!
Ее глаза светились неподдельной радостью. Рахмет взял ее руку в свои ладони и осторожно поцеловал. Она стеснительно отдернулась.
— Ну, рассказывай продолжение. Небось, за день придумал?
— „… И вот наступила весна. Вся пустыня заголубела мелкими цветочками, запахла свежей полынью. Все дышало любовью вокруг. Даже мыши вылезали по ночам из своих нор и пели, как соловьи. Вот в это время и вернулся Кобланды со своей Карлыгой в свой родной аул. И тут Карлыга узнала страшную весть. Оказывается, сердце Кобланды было уже обещано местной девушке, которая ждала его возвращения. И тогда в сердце степнячки вспыхнул огонь ревности и мщения. К аулу приближались разбойники, посланные вдогонку отцом Карлыги. Готовилось сражение. И вот в тот момент, когда ударили боевые барабаны и начал гореть огонь битвы, Карлыга нанесла витязю смертельный удар копьем. Сзади, меж лопаток…”
— О, Рахмет! Ну и дурацкий конец ты придумал!
— Я ничего не придумал, сестра. Это такая народная легенда. А ты какой конец хотела? Ну, например… „И стали они жить-поживать и добра наживать”. Просто и понятно. А тут — копья, барабаны. Немножко перегнул ты, Рахмет.
Он долго смеялся, закрыв ладонями лицо.
— Какая вы смешная женщина. Это же легенда! Коварство и любовь. Все вместе. Понимаете?
— Нет уж, Рахмет. Любовь так любовь, и точка. Без всякого коварства. Я так думаю. Так что ты, Рахмет, подумай до завтра. И поменяй конец своей казахской легенды на наш коммунистический революционный лад. Завтра приду. Скоро будем учиться ходить.
— А кто учитель будет? Если вы, то я согласен.
— Я, я. Кто же еще! Кому ты еще нужен, батыр сопливый… Учеба была трудной, болезненной. Рахмет очень старался. Дело на поправку шло медленно. Все легенды он уже пересказал Евдокии Мироновне, а ходил все еще плохо, придерживаясь за ее руку. И все больше привязывался к ней душевными нитями. Да и он стал для нее почти родным. Только никак не могла Евдокия Мироновна определить, чего в ее сердце больше: материнского или чисто женского. Ей нравилось, что Рахмет был с ней очень деликатным и целомудренным, но горячо вздрагивал при случайном прикосновении… Через неделю уходил поезд на Родину, на Брест. И чем ближе был день отъезда, тем печальнее становился Рахмет. Что-то важное он должен был сказать медсестре, но выдавить из себя никак не мог. „Легенды сочинять легче”, — думал он про себя. Вышел покурить вечером. Что-то душило его. Сзади раздалось шуршание. И шаги.
— Куришь, Тарас? Правильно, подыши в последний раз чужим воздухом. Завтра — домой!
Рахмет повернулся к ней и почти беззвучно прошептал: — Евдокия Мироновна… поедем жить вместе…
— Ты что, Рахмет, спятил, что ли? — обрадованно удивилась она, как будто он погладил своей смуглой рукой по нежной коже живота.
— Я не шучу. Я серьезно предлагаю. Тебя никто не будет так любить, как я. Всю жизнь буду любить. После смерти тоже буду любить.
— Рахмет, миленький, я не хочу тебя огорчать. Не могу я сразу, прямо сейчас, сказать тебе что-то определенное. Поедем вместе до Бреста. По дороге разберемся, а?
— Хорошо. По дороге разберемся.
И пошел прихрамывая в палату, оставив ее одну в ночной прохладе.
Когда она вернулась в подвал, Рахмет лежал лицом к стене, натянув на голову одеяло.
О чем он думал этой ночью? Что ей мерещилось и виделось?..
Утром шумно грузились на машины. Прощались, обменивались адресами. Целовались и плакали, размазывая слезы на лицах друг друга. Евдокия Мироновна залезла в кузов вместе с Рахметом.
До станции ехать двадцать километров. Моросил дождь. Укрылись плащ-палаткой и в уютной темноте, держась за руки, обменивались случайными мыслями.
— Ты понимаешь, что я на десять лет старше тебя?
— Понимаю.
— Ты понимаешь, что я ни одного казахского слова не знаю? Как я буду разговаривать с твоим отцом?
— По дороге тридцать слов выучим. Для начала хватит.
— А смогу я жить в ауле, по вашим законам и обычаям?
— Будем учиться. Я же научился снова ходить.
— Корову-то я доила. А верблюдицу — смогу?
— Конечно, сможешь. Сиськи такие же, только длиннее. Она замолчала. Потом он начал спрашивать.
— А у тебя родные есть?
— Родители умерли от голода в тридцать втором. Когда опробовали крестьян на прочность при переходе к колхозам. Есть тетка, да и та не родная.
— А ты сможешь любить меня, с другой верой?
— Попробовать надо.
— А родить сына сможешь?
— Родить? — при этих словах Евдокия Мироновна задумалась. — А черт его знает! Рожать-то я как раз не пробовала. Но, наверно, смогу.
— А как мне называть тебя? Я тебе буду Рахмет. А ты для меня как?
— Я-то? А я буду тебе просто Дуся. Устраивает? Или по-казахски не звучит? Карлыга красивее?
— Дуся тоже ничего. Я привыкну к тебе, Дуся.
И тогда они в первый раз поцеловались. Помолчали.
— Целоваться, Рахмет, скажу тебе честно, ты не умеешь. Не обижаешься?
— А я научусь потом. Ходить научился — целоваться тоже научусь.
— Это правильно, Рахмет. Мы с тобой всему научимся, да?.. Но жизнь их складывалась так, что учиться пришлось больше ей, чем Рахмету…
Подвезли их к аулу на попутке по проселочной дороге, когда уже стемнело. Дальше пешком с полкилометра. Сердце у Евдокии Мироновны трепетало. Ей было страшно от чужеземности и неизвестности. Она чувствовала себя одинокой в этой гулкой пустыне, под яркими южными звездами.
Рахмет подбадривал:
— Ничего не бойся. Самое главное, как отец нас встретит. Он мудрый, поймет. Ну-ка, повтори еще раз по-нашему: „Здравствуй, отец! Я — Дуся. Как ваше здоровье?”
Колпина старательно повторила заученные фразы. Рахмет громко рассмеялся:
— Ты говоришь очень с русским акцентом. Ну ничего, отец поймет. Он мудрый.
Прошли несколько шагов.
— Завтра барашка зарежем. Будет дастархан…
На фоне синего горизонта показались черные саманные домики, окруженные низким глиняным забором. В темноте спотыкались на каких-то ухабах.
— Осторожно, Рахмет. Береги ногу.
Прошли еще три дома.
— Сейчас будет наш дом, — шепотом произнес Рахмет.
В доме было темно. Ставни заколочены. Дверь закрыта. Или забита? Рахмет постучал тихо в окно. Потом громко — в дверь. Загремела где-то рядом металлическая щеколда. Из соседнего дома вышла темная фигура. Рахмет пошел навстречу. О чем-то долго шептался на своем языке. Потом вернулся, держа в руках свечку и ключ. Евдокия Мироновна уловила непредвиденное.
— Что, Рахмет? Что-то случилось?
— Отец умер. Полгода назад. В доме никого нет. Будем жить одни.
Где-то зацокал копытами и заржал конь. Ей снова стало страшно. Эту прохладную темную ночь она запомнила на всю жизнь. При свете свечи кое-как улеглись на полу, на старых кошмах. Рахмет был очень грустным и нежным, неумелым и сильным. Дусе легко было помогать ему в его желаниях. Он всю ночь ворочался, шептал что-то на смешанном языке горечи и любви. К утру успокоился. Прочитал короткую молитву, лег на спину и затих. А она все не спала. Усталая, утомленная до невесомости, тихо плакала от жалости к самой себе.