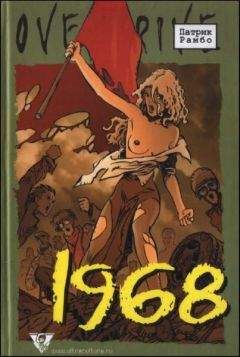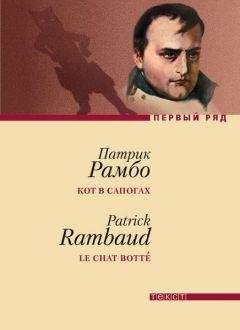— О-о-о-о-о!
Над Сорбонной прокатился стон возмущения и разочарования. Потом все смолкли, чтобы услышать продолжение:
— Я не стану менять и премьер-министра, чьи смелость, обстоятельность и умение действовать в сложной ситуации заслуживают всеобщего уважения…
Затем генерал объявил, что распускает Национальное собрание и что выборы парламента состоятся в срок, предусмотренный конституцией:
— Если только не возникнет попыток заткнуть рот всему французскому народу, не давая ему ни высказываться, ни спокойно жить…
— А кто, интересно, мешает нам жить? — спросил Родриго.
— Он нам угрожает! — воскликнула Теодора, сидевшая на коленях у каменного Виктора Гюго.
— …теми же способами, какими сейчас студентам не дают учиться, преподавателям — преподавать, а трудящимся — трудиться…
Не выбирая выражений, де Голль обвинил протестующих в намерениях установить тиранию и заявил, что настала пора снова взять в руки страну, которой угрожает диктатура. Между делом он бросил осуждающую реплику насчет тоталитарных коммунистов, которым сам был стольким обязан, и раскритиковал амбиции «вышедших в тираж политиков левого толка».
— Он сам диктатор!
— Не лучше Петена[78]!
— Снова «моральный порядок»!
Повсюду разгорались импровизированные дискуссии. Благодаря своим костылям Марко выглядел как ветеран, и его слушали внимательнее, чем Родриго:
— Что он нам предлагает? Выборы! Он просто издевается, большинство студентов даже не имеет еще права голоса!
— Он ничего, ничегошеньки не понял! — в отчаянии повторяла Тео.
— В Сорбонну снова нагонят легавых!
— И на заводы!
— Это провокация!
— Не дадим себя запугать!
— Одни угрозы и никаких дельных предложений!
В доме номер 5 по улице Сольферино члены комитетов защиты Республики ненадолго отложили краски и кисти, которыми писали лозунги на транспарантах. Здесь речь президента восприняли совсем иначе — с радостью и удовлетворением. Вот уже два дня голлисты распространяли листовки и строили планы. Отряды патриотов-добровольцев были готовы противостоять смуте. Оружие? В казармах его полным-полно. Сорбонна? Ее можно отвоевать за три четверти часа, а «Одеон» — за полчаса. А потом надо будет занять государственные учреждения, чтобы защитить их от вторжения коммунистов.
Тевенон только что получил подтверждение, что Мальро[79] и Мориак[80] придут на митинг на площади Согласия и будут поджидать процессию у коней Марли[81], при въезде на Елисейские Поля. Но много ли сторонников удастся собрать? По радио не передали, где именно должна состояться встреча, и чтобы не выглядеть жалко, учитывая огромные размеры площади Согласия, нужно было собрать не меньше пятидесяти тысяч человек.
— Сто тысяч! — воскликнул депутат Жюрио, опоясанный трехцветной перевязью.
Он только что приехал из парламента и рассказал, что правые депутаты встретили роспуск аплодисментами. Левы© остались сидеть и принялись распевать «Марсельезу», чтобы заявить на нее свои права.
— Поздно спохватились! — сказал народный избранник Тевенон, вытаскивая из ящика свою депутатскую перевязь.
Продвигаясь к площади Согласия, толпа становилась все гуще. На набережной Тюильри, на другом берегу Сены, депутаты заметили автобусы, прибывшие из провинции — из Эра, Па-де-Кале, из Дижона… Надежда их окрылила. За мостом они увидели целую вереницу трехцветных флагов, реявших на фонтанах, на статуях, на окнах отеля «Крийон» и Клуба автомобилистов. Потом им навстречу хлынул настоящий людской поток. Все новые и новые демонстранты прибывали с улиц Руайяль и Риволи, тесно сомкнув ряды.
— Сто тысяч? — шутливым тоном переспросил Жюрио.
— В два, в три раза больше! — ликовал депутат Тевенон.
Эта толпа была совсем непохожа на тех, кто устраивал акции протеста в течение всего мая. Здесь были ветераны войны, увешанные крестами и орденскими лентами, гражданские в красных парашютистских беретах — кто-то из них сражался в танковых дивизиях на Рейне или Дунае, кто-то — в Индокитае, среди рисовых плантаций и джунглей. Пришли все депутаты-голлисты, которых легко было узнать по сине-бело-красным перевязям. Инвалиды войны на своих колясках махали руками в ответ на овации публики, столпившейся под деревьями вдоль проспекта. На джипе дорожной полиции красовался значок с лотарингским крестом[82]. Можно было увидеть и облаченных в костюмы-тройки буржуа, пришедших, чтобы их успокоили, и модниц в ультракоротких юбках и платочках от «Эрмес», и мужчин в камуфляже, и празднично одетых торговцев, и служащих, которые улыбались, возможно, со страху, и чистеньких молодых людей из Западного движения, и чиновников, испугавшихся за свою зарплату. Все они неорганизованно, медленным шагом проследовали к Триумфальной арке на площади Этуаль, распевая «Марсельезу», словно религиозный гимн. Они несли транспаранты: «Де Голль не один!», время от времени выкрикивали: «Миттеран — шарлатан!» или «Рыжего — в Берлин!», имея в виду этого негодяя Кон-Бендита, а порой звучали и сомнительные лозунги вроде «Кон-Бендита — в Дахау!» или «Франция — французам!» Что поделать, ведь все эти люди натерпелись такого страху.
На то, чтобы снова разжечь вечный огонь у памятника Неизвестному солдату, ушел целый час. По дороге туда студенты-юристы кричали: «Перефитта в Сорбонну» и «Студенческий союз в Пекин!» На переполненном тротуаре стайка монахинь в чепцах подхватила вслед за ними: «Миттеран, убирайся!» Незадолго до окончания демонстрации едва не произошел неприятный инцидент: Жюрио разглядел на улице Гранд-Арме, на стройке регионального ответвления железной дороги, красный флаг, который реял на вершине подъемного крана. Депутат указал на флаг Тевенону и спровоцировал толпу:
— Уберите этот флаг!
— Сожгите эту тряпку!
Мускулистые парни, сломав заграждения, проложили себе дорогу к подъемному крану. Один из них снял пиджак, собираясь залезть наверх по перекладинам с трехцветным флагом в руке, но трое рабочих, сидевших в кабине, вылили ему на голову отработанное масло. Внизу все уже были на грани истерики, когда наконец вмешалась полиция. Бригадиру стройки удалось образумить рабочих и убедить их, чтобы те убрали свое алое знамя.
Порталье постепенно приходил в себя после субботних побоев, но все еще не покидал квартирку своего друга Корбьера. Мадам Жюрио продолжала играть роль заботливой сиделки, правда взгляд у нее все чаще блестел от регулярных возлияний. Слегка навеселе, свернувшись калачиком на диване, она вместе с молодым человеком слушала обращение генерала. По радио передали, что в провинции, в Безансоне, неизвестный выстрелил из охотничьего ружья в рабочего завода «Родьясета», в Ла-Рошель другие неизвестные из машин с замаскированными номерами забросали забастовочный пикет бутылками с бензином, а в Руане сожгли несколько красных флагов.
Высунувшись в окно, Порталье увидел сторонников де Голля, которые стекались с площади Этуаль по проспекту Фридланда и бежали по улице Бальзака, чтобы поскорее присоединиться к шествию. Сейчас, в сумерках, машины гудели в такт лозунгу «Де Голль не один», в том же ритме, как когда-то «ОТА[83] победит!»
— Лучше бы ваш де Голль, — сказал Порталье мадам Жюрио, — говорил о французах, а не о Франции.
— Французы? Они сразу же отозвались на его призыв!
— Вот эти трусы? Они думают только о своей ренте, о жаловании, о пенсиях. Но они больше не заставят нас плясать под их дудку! Еще чего! Зарабатывать, чтобы потреблять, копить, собирать, а потом платить, платить и еще раз платить!
— А на что вы собираетесь жить в будущем, Ролан?
— Лучше спросите, как я собираюсь жить.
Жена депутата с самого начала показалась Порталье презренным существом, несколько дней назад он едва не выставил ее за порог вместе с ее сумкой, но потом ситуация стала его забавлять. Он порылся в библиотеке Корбьера и вытащил со стеллажа опубликованную в прошлом году книжку Ванегейма[84] «Трактат о правилах жизни для новых поколений», полистал и зачитал оттуда фрагмент:
— Система торговых обменов в конце концов стала определяющей в повседневных отношениях человека с самим собой и с себе подобными. И в общественной, и в частной жизни количество преобладает над качеством…
— Ролан, переведите, пожалуйста.
— Политика подчиняется экономике, но для нас жизнь важнее экономики. Мы выбираем качество, а не количество. Ванегейм пишет, как Монтень.
— Вы протестуете просто ради протеста!
— Де Голль в 1940 году сам отказался подчиняться, а теперь не выносит, чтобы ему перечили?
— Ролан, люди, над которыми вы смеетесь, пережили оккупацию, весь этот ужас, бомбардировки, когда при каждом сигнале тревоги нужно было спускаться в бомбоубежище, кругом нужда, продукты выдавались по карточкам… Вы еще слишком молоды, чтобы…