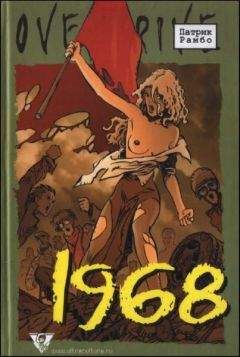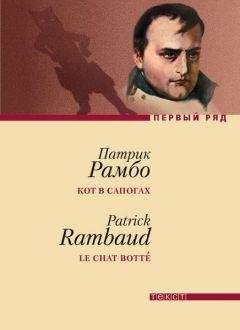У четы де Голлей было с собой три чемодана, один большой и два маленьких, явно больше, чем они брали с собой в Ла-Буассери на обычные выходные. Вертолет поднялся в воздух и направился на восток. Впереди летел вертолет жандармерии, сзади — еще один «жаворонок», где расположились полицейский комиссар, телохранитель и личный врач президента с внушительным набором лекарств и инструментов. Было без четверти двенадцать.
Вместо того чтобы приземлиться в Коломбе, три вертолета совершили посадку в Сен-Дизье и вновь наполнили баки горючим. Потом они проследовали в направлении Арденн. «Жаворонок» генерала и сопровождение летели очень низко, в ста метрах от земли, чтобы их не засекли радары, а также избегая возможного столкновения, ведь маршрут перелета никому заранее не сообщался. Так они пересекли Эльзас, перелетели через Рейн. В кабине стоял страшный шум, ничего не было слышно, так что де Голль нацарапал на оборотной стороне конверта записку своему адъютанту, сидевшему впереди рядом с пилотом. Это была конечная цель полета: «Резиденция командующего нашими силами в Германии». Иначе говоря, Баден-Баден — резиденция генерала Массю, с которым не удалось связаться раньше из-за забастовки на почте. Во время последней посадки на аэродроме в Баден-Оос его все же предупредили, и вертолеты опять поднялись в воздух. Массю в пуловере отдыхал после обеда, развалившись на диване и закрыв лицо журналом. Генерал сразу же вскочил, хотя с перепоя у него раскалывалась голова, поскольку накануне он до глубокой ночи хлестал водку в компании своего советского коллеги. Массю распорядился, чтобы на газоне световыми сигналами и дымовыми шашками обозначили посадочную полосу. И как раз вовремя. Вот уже показались «жаворонки». Среди порывов сильного ветра, который поднялся от крутящихся лопастей, де Голль вышел из вертолета и большими шагами направился к Массю, вытянувшемуся по стойке «смирно».
— Все летит к чертям, — сказал он.
— Простите, господин генерал?
— Страна парализована, коммунисты заняли улицы, а я прилетел сюда к вам, чтобы поразмыслить.
— Неужели все так серьезно?
— Вчера, когда моя жена остановилась на красный свет, ее оскорбил какой-то водитель. Все хотят, чтобы я ушел. Я проиграл.
Они продолжили разговор наедине в кабинете Массю. Де Голль был подавлен и говорил, что пора все бросить. Даже голлисты хотят, чтобы он ушел, и строят глазки его давнему врагу Мендесу Франсу.
— Вы не можете уйти просто так, — сказал Массю.
— Еще как могу.
— Вы уйдете в отставку, если народ проголосует против вас на выборах. Иначе будет похоже, что вы сбежали с поля боя!
— Да, это похоже на бегство. Массю, мне семьдесят два года, моя жена будет только рада, если я уйду
на пенсию, и не только она одна.
После стольких часов тяжелого перелета де Голль наконец согласился перекусить, и разговор продолжился за омлетом, стаканом воды и чашечкой кофе. Было чуть больше трех часов пополудни.
— Кого вы предупредили о том, что летите сюда?
— Никого. Да, могу себе представить, в Париже сейчас все сходят с ума. Тем лучше.
— Что вы решили? — спросил Массю,
— Некоторые воображают, будто я ушел в монастырь…
— Господин генерал, вы не можете вот так отказаться от власти! Соберитесь с духом! Вам и не такое приходилось пережить!
— Продолжайте, Массю, продолжайте.
— Надо бороться! Да, положение дерьмовое, ну и что, оставайтесь на своем месте, вернитесь в Париж и продолжайте руководить страной!
— Будьте так любезны, предупредите нашего посла в Бонне, что я в Германии.
Массю удалился на несколько минут, возмущаясь про себя: «Что за упрямец!» Вернувшись к себе в кабинет, он увидел, что де Голль уже встал из-за стола. Генерал обнял своего сторонника и сказал только:
— Я уезжаю.
В восемнадцать часов де Голль с женой прилетели в Коломбе, в свой большой загородный дом на краю 404-й трассы, охраняемой жандармами. Генерал пошел прогуляться по парку со своим адъютантом.
— Рейн, печальный свидетель стольких бед и тревог, / Вечно слезы людские твой сбирает поток. Знаете, чьи это стихи?
— Нет, — ответил адъютант, — Гюго?
— Нет.
— Ламартина?
— Мои. Откуда вам было это знать?
И де Голль улыбнулся, глядя на деревья.
Все теперь казалось возможным. В толпе быстро передавалась новость: де Голль бежал, правительство вот-вот падет под нажимом народа. Множество столпившихся на площади Бастилии людей в это поверило, пожилые дамы аплодировали, забравшись на скамейки, студенты развернули у основания Июльской колонны плакат: «Народному правительству — да! Миттерану — нет!» На краю бульвара Бомарше возникло еще одно шествие. Жорж Сеги и коммунисты сегодня допустили в свои ряды политические лозунги, вроде: «Де Голля в отставку!», все время звучал призыв: «Народное правительство!» Всеобщая конфедерация не смогла противостоять воле большинства и довольствовалась тем, что кое-как сдерживала эту разношерстную армию недовольных, в которой смешались все поколения. Над головами развевались бесчисленные красные флаги, некоторые из них были изготовлены вручную, из палок и платков. Кругом распевали самые известные строчки из «Интернационала», люди держались за руки, чтобы не потеряться в толпе. Послышалось несколько криков: «Долой де Голля!» Студенты, по собственной инициативе присоединившиеся к этой демонстрации, повторяли друг другу радостные вести. Другие шествия шли по улицам Ниццы, Лиона, Сент-Этьенна, Каэна, Лиможа, движение протеста перекинулось и за границу. По примеру французских студентов заволновалась молодежь в Берлине, Мадриде, Женеве, Риме, Буэнос-Айресе, Дакаре, Лондоне — вплоть до Перу. «Мы победим, и победим на всей планете». Старая власть повсюду сдавала свои позиции.
Марианна и Эрик Тевенон в компании других сторонников Мао радовались вместе с коммунистами, а те посматривали на них с недоверием. «Правда» объявила, что эти горячие головы представляют собой угрозу для рабочего движения, причем почти в тех же выражениях, что и в недавней голлистской листовке, где говорилось, что революционеры на китайский манер хотят уничтожить партии и профсоюзы. Марианну это злило.
— Но они правы, — заметил Тевенон.
— А что, если мы пойдем на Елисейский дворец?
— Сторожевые псы не пустят.
Молодой человек указал на здоровяков из службы порядка Всеобщей конфедерации с зелеными повязками на левой руке. Вместе с сотней тысяч других демонстрантов Марианна и Тевенон прошли по центральным бульварам, которые все были запружены людьми. Над крышами реяли красные флаги, жители береговых кварталов махали платками с балконов, когда молодежь орала: «Де Голля — к стенке!»
Четверг, 30 мая 1968 года
Похмелье и возврат к ежовым рукавицам
Без транзисторов май 68 года не был бы маем 68-го. С самого начала событий радиостанции, особенно периферийные, без перебоя сообщали слушателям о действиях студентов, об их битвах, о повседневной жизни Сорбонны, о передвижениях, приказах, импровизациях и разрушениях. Эти рассказы по горячим следам превратили волнения в настоящую эпопею, привели в Латинский квартал тех, кто сомневался или раньше был не в курсе дела, восхитили одних и напугали других, вообразивших по драматическим голосам репортеров, которые в прямом эфире комментировали поджоги ящиков, будто весь Париж охвачен пламенем. Когда министр внутренних дел запретил журналистам пользоваться радиотелефонами, чтобы они своими репортажами не усугубляли ситуацию, от этого в первую очередь пострадал полицейский префект. Как ему было найти другой способ оперативно передавать в эфир свои сообщения и призывы к перемирию, одновременно обращенные к студенческим лидерам, к массам, к полиции, ко всей Франции? Вернувшись из Германии и Коломбе, де Голль, воодушевленный после разговора с Массю, решил сегодня, в четверг, выступить с обращением. И вот по всей стране заработали транзисторы, прессе снова разрешили использовать в служебных машинах радиотелефоны. Повсюду в Сорбонне — на площади, среди статуй и стендов, в типографии, от кухни до детского сада, несмотря на гвалт шестидесяти ребятишек — люди с нетерпением дожидались назначенного часа. Несколько тактов из Моцарта возвестило о начале речи.
В воздухе повисла необычная напряженная тишина. Неужели генерал собирает наконец свои пожитки? И вот по всей стране зазвенел его решительный, резкий голос:
— В нынешних обстоятельствах я никуда не уйду. Меня избрал народ. Я не стану слагать с себя полномочия, которыми наделил меня народ, пока не закончится срок, отведенный мне законом…
— О-о-о-о-о!
Над Сорбонной прокатился стон возмущения и разочарования. Потом все смолкли, чтобы услышать продолжение: