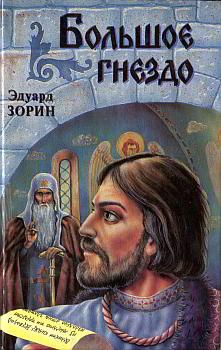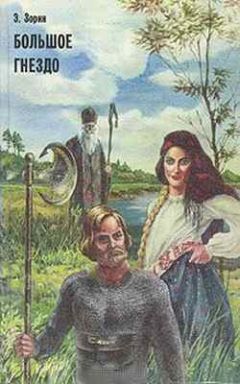Что есть человек? Прах и глина. Безобразные кости, череп с пустыми глазницами… Не истлевает ли и душа, не истончается ли вместе с костьми и не растворяется ли в полых водах, не разносится ли по долам и весям с песком и пылью?
— Верую, господи, — шептал Чурила бескровными губами. — Верую, верую…
Но мысли его возвращались на круги своя, жесткой ясностью сжигали последнюю надежду.
Вся жизнь проходила перед взором Чурилы — своя и чужая. Большая жизнь, которая сейчас казалась ничтожной, как островок в безответном, безграничном мраке. Придут другие люди, начнут все заново — еще и еще. И они растают в безбрежности…
Лишь руки, касавшиеся теплых листов пергамента, напоминали ему что-то, но что?..
И вот однажды сверкнула молния, обожгла пальцы и разлилась внутри его спокойным светом: разве не вложил он душу свою в эти листы, в эти маленькие черные буковки? Разве не осенил его бог своей благодатью, ниспослав ему великое знамение? И разве не его избрал он среди многих, водя рукой его? И не свои ли помыслы вложил в пергаментные листы, которые останутся и будут жить вечно?..
— Господи, — шептал Чурила, — верую. Воистину душа человеческая бессмертна…
Так и умер он с этими словами на устах. Игумен закрыл его глаза и вышел из кельи. На всходе стояли плачущие монахи.
— Почто плачете? — спросил их игумен, глотая слезы.
— Жаль Чурилу, — сказали монахи.
— Возрадуйтесь, скоро душа его встретится с богом.
— Воистину так, — сказали монахи, но слез не могли унять. Тогда взошел игумен в собор, и следом за ним взошли в собор все. И повелел игумен, как в праздник, зажечь восковые свечи. И свечи зажгли, как он повелел, и встали на колени.
— Помолимся, братие, — сказал игумен.
— Помолимся, — сказали монахи. И долго молились и клали земные поклоны.
Спи спокойно, Чурила. Пусть не тревожат тебя земные сны. Прольются над тобой дожди, лягут снега, взойдут весенние травы, созреют на полях злаки. И снова прольются дожди, и снова лягут снега, и снова взойдут весенние травы…
Призовет к себе Всеволод обученного грамоте ратника и скажет ему так:
— Забудут ли внуки наши содеянное отцами и дедами? Умрет ли память о нас вместе с нами?..
— Нет, не умрет, — скажет ратник, и преклонит колена, и возьмет из руки князя твою летопись.
Пролетят годы. Придет лихолетье. И над могилой твоей, Чурила, подымет пыль до небес чужая конница. Принесет она с собой запах далеких становищ и горькой степной полыни. Рухнут городницы Владимира и Суздаля, вспыхнут, как свечи, белокаменные соборы, умоется кровью земля… Пронзенный стрелой, падет ратник на желтые листы пергамента.
Но разве люди дадут оборваться памяти?.. Темной ночью придут они и похоронят ратника, а бесценные листы, рискуя жизнью, унесут с собою в леса.
Спи спокойно, Чурила. Пусть не тревожат тебя земные сны. Не скоро придет на могилу твою страшная весть — далеко отсюда еще только собирается конница в бескрайние табуны…
А пока ни стар, ни млад не пройдут мимо — присядут у холмика, развернут тряпицу с нехитрой едой, помянут тебя, отдохнут и тронутся дальше в путь…
…Бродит русский мужик по земле — ищет себе лучшей доли. Проложил дороги во все концы, пробил тропы сквозь бурелом и болота. Но заветной тропы все никак не найдет. А от Дышучего моря, треща небывалыми морозами, идет с великими снегами суровая зима…
Все, что сказывал Морхиня про Веселицу, все истинно так и было. Не удержал его Мисаил — ни добротой своей не удержал, ни речьми праведными.
— Ища озлобления в сердце своем, — говорил Мисаил, — ступаешь ты, Веселица, на грешный и зело опасный путь. И в том я тебе не помощник, и благословения моего для себя не жди.
Горько было сознавать старцу, что не нашел он в сердце Веселицы отклика на свою доброту, но верил еще: не много пройдет времени, потолкается Веселица в миру — и вернется назад. Не сыскать ему правды — зарыта она глубоко, милости княжеской не добиться — нет у него послухов против Одноока. Посмеется над ним боярин и велит вдругорядь гнать со двора. А князь сурово накажет за наговор.
Предостерег бы Мисаил Веселицу, да по глазам прочел: падут слова его на бесплодный камень. Почто надрываться зря?..
Ушел Веселица. Придя во Владимир, перво-наперво заглянул к Морхине.
Кузнец вытаращил глаза:
— Покойничек не то ожил?
— Не хоронил ты меня…
— Другие хоронили…
— Хоронить-то хоронили, да в гроб положить забыли. Вот он я!
— Не серчай, Веселица, — мягко сказал кузнец. — Видеть тебя я рад.
— Одноока тоже порадую…
— Эко удивил!.. А в беде своей ты сам виноват. Одноок брал, что в руки шло: на то он и резоимец.
— Ко Всеволоду пойду.
— Вовсе помутился у тебя рассудок. Да нешто князь боярина даст в обиду?
Совсем отчаялся Веселица. Обессилев, прислонился к наковальне, опустил безвольно руки. Острые лопатки жалко торчали сквозь продранную на спине рубаху, грязные пальцы высовывались из худых лаптей.
Умолял Веселица:
— Ну, научи меня, Морхиня. Ты человек мудрой — про то все говорят. И князь тебя чтит. Как быть?..
— Купцы тебя к себе не примут, знаешь сам, — вслух рассуждал кузнец. — Идти тебе в закупы, а иного пути нет…
— Эко присоветовал! — ожесточившись, вскочил Веселица. — А из закупов — в холопы?..
— Почто в холопы? Откупишься — снова станешь свободным…
— Немощен я…
Жалко было Морхине Веселицу, но как ему помочь?
— Ты князю-то замолвил бы за меня словечко, — снова принялся за свое Веселица. Глаза его лихорадочно блестели.
— Не послушает меня князь…
— Куды ж мне?
Морхиня помолчал. Веселица перекатывал на худых скулах жесткие желваки.
— Пропал я, Морхиня, яко капустный червь, — сказал он.
— Сам на себя веревку свил, других винить неча, — укорил кузнец.
Веселица побледнел:
— На пиру много друзей…
— Не ярись. Эко явился — словно полымем тебя принесло. Послушайся моего совета…
— Ко князю пойду.
— Одно заладил…
— Прощай, Морхиня.
— Прощай.
Вышел Веселица на улицу — ослеп от яркого солнца. Шел, качаясь, как пьяный. И чем дальше он шел, тем все больше западали ему в душу слова, сказанные Морхиней. Не кривил душою кузнец — говорил то, что знал. Надежный он человек, и зря обругал его Веселица.
В закупы идти — все равно что на кривой и кособокой жениться. Но кривую жену не избыть вовек, а из закупов можно выкарабкаться…
Был у него еще смиренник — отец Мисаил. Но принимать суровый обет Веселица не хотел. Не чувствовал он в себе близости к богу и еще мечтал рассчитаться с Однооком.
Припекало осеннее солнышко Веселице спину, а в тени под заборами снег лежал.
Шел Веселица, не глядя по сторонам. У Медных ворот увязались за ним ребятишки. Поначалу дразнили незлобно, дергали за штаны, потом принялись кидать в него комья мерзлой земли.
— Весел Веселица, да рожа невесела! — кричали они, сбиваясь в озорную толпу.
Взрослые выходили из ворот — иные отгоняли ребятишек, другие тоже скалили зубы.
— Принесло его нам на лихо.
— Куды только посадник глядит?!
Бабы жалились:
— Не трожьте убогого.
Мужики со знанием говорили:
— Не убогой он, без понятия. Глупо рожено — не научишь…
Вдруг будто споткнулся Веселица. Поднял затуманенный взгляд и увидел, что стоит перед бывшей своей избой. На крыше — те же петухи, оконца облачены в кружевные наличники. Перед воротами стоит возок, одна к одной — белые лошади украшены нарядной сбруей. Выводят отроки красну девицу в высоком кокошнике, придерживают ее под локотки.
Ах ты, господи, ведь привидится же такое! И не красну девицу вовсе подсаживают в возок отроки, а боярина Одноока. Кланяются ему низко, ноги, обутые в мягкие сапоги, бережно укутывают ласковым мехом.
Тут-то и глянул боярин на убогого, вытаращил глазищи, разинул, набравши воздуха, рот, заорал:
— Гони!..
Взяли кони с места, понесли возок по разбитой дороге, ударили его задом в плетень, выровняли бег и скрылись за поворотом.
Веселица задрожал, кинулся вслед. Ребятишки веселой гурьбой бежали с ним рядом. Улица наполнилась беспокойной суетой и криками:
— Лови!
— Держи!
— Хватай вора!..
Шла навстречу монашка, испуганно крестясь, попятилась с дороги.
— Помогай вам бог, люди добрые, — обратилась она к бабам. — Не скажете ли почто шум?
— Здрава будь, Феодора, — отвечали ей бабы. — Нанесло на нас опять Веселицу. Сколь ден не показывался — думали, сгиб. Ан нет. Сызнова грозится Однооку…
— Чего грозится-то? — удивилась монашка.