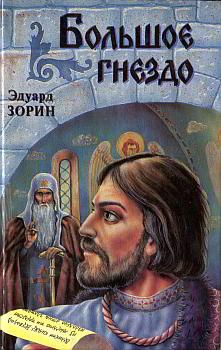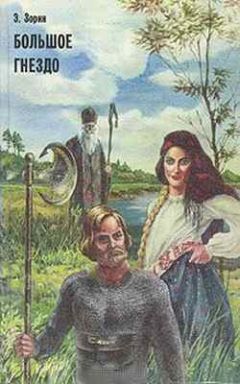Оглядываясь, Феодора говорила с улыбкой:
— Хорошо у вас, чисто, прибрано, а живете без бабы…
— Тоже люди, чай, — сказал от печи Мисаил. Сидя на корточках, он чистил широким ножом репу и бросал в горшок.
Веселица, не отрываясь, разглядывал Феодору. Вот ведь чудно — шли вечор рядом, а не заметил он ни ее глаз, ни губ; не помнил даже — молода она или стара: заслонила весь мир от него обида.
Сегодня начали таять коловшие сердце льдинки, отпускала тягучая боль.
— Откуда ты, Феодора? — спрашивал он изумленно, боясь шевельнуться на лавке.
— Из монастыря, — потупила она глаза.
— Не черница ты…
— Грех так говорить, — отвечала с упреком.
— Не ведал я таких черниц…
— А каких ведал? — вскидывала она ресницы.
— Пахнет от тебя землей и травами…
— От земли я, Веселица. Вот и пахнет землей.
— Как звали тебя в миру?
— Малкой.
— Беда к беде путь ищет. Должно, шибко обидели тебя, Малка?
— Ох как обидели!..
Затаенную боль прочел в ее глазах Веселица. Запнулся, замолчал. Опустил голову на руки.
— Ты не молчи, Веселица. Ты говори, — тихо попросила Феодора. — Ты про себя расскажи…
— Про меня сказывать нечего. Пропащий я человек.
— Ты его, Феодора, не пытай, — глухо проговорил смиренник. — Нет у него ничего на уме, окромя Одноока. Как выхаживал я его, читал Святое писание. Ничо. Покуда болен был, взывал к богу: спаси! А встал на ноги — и все заповеди забыл. Кощунствует и пребывает в постоянном грехе…
— Хочу смириться, а не могу, — сказал Веселица. — Бес меня оседлал…
— Не бес, но гордыня, — спокойно поправил Мисаил.
Не засиделась Феодора в гостях: ей еще в городе дел было невпроворот. Навязали монашки рукавиц для клобучника Лепилы. Они ему — рукавицы, он им — иное что.
— Тем и сыты, — сказала Феодора.
— Ваша игуменья тщится Одноока перебодать, — осудил Досифею Мисаил.
Феодоре понравился старец, старцу пришлась по душе Феодора. Но Веселице он сказал:
— Все одно — баба. И знаться с ней — грех.
Окуривая после ухода Феодоры избу, чтобы изгнать нечистую силу, он бормотал молитвы и качал головой:
— Зря приютил я тебя, Веселица. Отвернется от меня господь. Разгневается.
— Куды же мне?
— А вот куды хошь, туды и иди.
Но, когда Веселица собрал мешок и стал креститься на иконы, Мисаил вдруг обхватил его и, склоняясь к груди, заговорил сбивчиво:
— Прости меня, старого. Ей-ей, прости. Не ведал, что язык бормотал. Грешен, грешен еси…
Так и остался Веселица у Мисаила.
С того дня все реже вспоминал он Одноока и все чаще — Феодору. Подолгу сидел перед избой, смотрел на тропинку, ждал, когда мелькнет среди кустов ее знакомая душегрейка.
Но дни шли за днями, а Феодора не приходила. Крепкие легли снега, ударили морозы.
Однажды утром, взяв Мисаиловы лыжи, Веселица встал на них и отправился к монастырю…
Не зря беспокоился Веселица: с Феодорой и впрямь приключилась беда.
Еще на подходе к городу было ей недоброе знамение: у Лыбеди встретилась ей баба с пустым ведром, а у самой избы, где жил Лепила, перебежал дорогу черный кот.
Был клобучник навеселе и, пока раскладывала она на лавке перед ним разноцветные рукавицы (будто радугу, высыпала из своего лубка!), все норовил ущипнуть ее за бок.
Феодора ловко уворачивалась от него, не серчая, но распаленный Лепила не отставал.
— Ай да черница!.. Ай да лада! — хоркал он, щекоча бородой ее ушко.
— Куды лезешь, старой бес? — говорила Феодора, отдирая от груди его руки.
И раньше, случалось, Лепила приставал к Феодоре. Не пропускал он и других черниц. За себя-то она шибко не беспокоилась…
Тут вошла со двора жена клобучника и стала жаловаться Феодоре на мужа:
— Извели его меды-то. Вовсе ошалел, умишком тронулся…
— Ты, баба, не встревай, коли не смыслишь, — сердился Лепила, с неохотой отходя от Феодоры, но и издали продолжал ласкать ее блудливым взглядом.
— Ну, будя, поозоровал — так нишкни, — рассердилась жена. — Не то шоркну по спине коромыслом.
Так было всегда. Жена Лепилы положила Феодоре в луб съестного, поклонилась ей и выпроводила за ворота.
— Помолись за нас, грешных, — сказала на прощанье…
Шла Феодора по улице, глядела на поседевшие от снега крыши, улыбалась и вдруг встала как вкопанная: катилась навстречу ей, словно опавшие листья, густая толпа.
— Куды побегли? — сунулась любопытная Феодора к запыхавшимся мужикам.
— Изба горит!..
— Чья изба?
Голоса становились все внятнее:
— Подпалили Одноока!
— Беда!..
— Свое спасай, мужики!..
Толпа подхватила Феодору, поволокла с собой по за мерзшим лужам, по кочкам и колдобинам. Теперь увидела она поверх голов растрепанный столб дыма почти у самых Медных ворот. Натруженно грохотало било…
Сердце Феодоры сжалось в недобром предчувствии, в висках застучало. Обмякли ноги. «Кажись, Веселицына изба! — подумала она со страхом. — Эко место заклятое!»
…Гудело и било в окна яркими искрами откуда-то изнутри. Осклизаясь на подтаявшем снегу, по крыше ползали мокрые люди с ведрами, лили воду на дымящиеся доски. Воду вытаскивали из колодца во дворе, несли от соседних изб.
У ворот Феодора увидела на коне Одноока. Был он одет наспех, без шапки и без рукавиц, кричал, раздирая большой рот:
— Наддай, мужички!.. Ставлю бочонок меду!.. Два бочонка!.. Наддай, мужички!
Но пламя не сдавалось, оно уже вылизывало стены, подбиралось к причелинам, крыша курилась и корчилась; окна выстреливали горячими снопами огня.
Не выдержав жара, мужики покатились с крыши на снег. Крестились. Бабы причитали, стадно жались к плетням…
— Что же вы, мужички?! — взывал Одноок. — Почто отступились?..
— Была охота в полымя лезть, — отвечали ему из толпы.
— Своя жизнь дорога…
— Твоя изба, боярин, ты и лезь…
— Чужое-то к рукам не прилипло…
— Вона как полыхает — любо!
Мелькнули в толпе отчаянные и злые глаза.
— Ты поджег? — схватили какого-то мужика растолкавшие людей отроки. До хруста заломили руки за спину, бросили на дорогу, били кулаками и топтали. Глаза мужика, исполненные страдания, налились кровью. Голова безвольно моталась и вздрагивала от ударов.
Стоявшая ближе всех к нему Феодора отшатнулась, попятилась, закрыв лицо руками. Всплыло давнишнее, почти забытое, — так же били Зорю, мужа ее, на усадьбе у боярина Разумника. Звери, звери лютые!..
— Заступитесь, бабоньки! — завопила Феодора, не узнав своего голоса. Оглохнув от ненависти, ослепнув, вцепилась в кого-то — руками не отдерешь.
— Вовсе сдурела черница! — лопнул, как пузырь, у самого уха надсадный голос.
Феодора раскрыла глаза, увидела удивленное безусое лицо в крови, отшатнулась. Кто-то схватил ее за плечи, оттащил в сторону, встряхнул.
— Она это!.. Она! — завопил, приходя в себя, отрок. Наскочил, как петух, закружился вокруг Феодоры на одной ноге, на второй переломился в голенище сапог.
Из лубяной сумы на спине Феодоры вывалилась на дорогу краюха хлеба, бурачок и две луковки.
Бабы тоже ее признали:
— Куды ж принесло тебя, черница?
— То купчишкина зазноба! — кричал отрок. — Никак, и он здеся!..
— Не страми божьего человека, — осаживали его бабы. — Чо разорался?.. Не зазноба она, а смиренница.
— Веселица здеся, Одноок! — выслуживался отрок перед боярином. — Вот ента черница вчерась подле него кудахтала. Никто другой — он и поджег избу-то…
Тут все забыли про Феодору, да и она сама замерла с открытым ртом: горевшая изба закачалась, крышу словно приподняло знобящим ветром — она с грохотом провалилась, на толпу посыпались горячие головешки… Тихо стало, как на похоронах, кто-то всхлипнул, кто-то завыл в голос. Боярин, сидя на коне, смотрел остановившимся взором в дотлевающие желтыми и синими искрами угольки.
Слава богу, мимо соседних изб огонь пронесло. А то, что боярские хоромы сгорели, мужиков не очень опечалило. Иные только жалели:
— Бочонок меду ставил боярин…
— Дык ежели бы потушили…
— А жаль бочонок-то.
— Погуляли б…
— Своя бражка есть, неча кланяться…
— Пошли, мужики!..
Народ стал неторопливо расходиться. Феодора тоже сунулась за ними вслед. Отроки преградили ей дорогу:
— А ты погодь, черница.
Подъехал на коне Одноок. Подергивая дрожащей рукой опущенные поводья, вперил в Феодору колючий взгляд.
— Твоя игуменья — не Досифея ли? — спросил тихо.
— Она, боярин, — поклонилась Феодора.
Одноок сказал:
— Почто в городе? Почто людей моих страмишь?
— В город игуменья меня послала — рукавички снести клобучнику Лепиле. А людей твоих, боярин, я не страмила. Сами острамились перед честным народом.