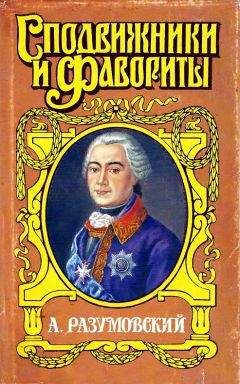— Ага, соображаешь. Сообрази теперь — что я при государыне?
— Сообразил, брат, но вымолвить не смею.
— И не вымовляй… не размовляй! Фу, привязалась хохляндия…
Душу отвел, а грешить нечего.
— Конечно, невелик от тебя прок был в ту ночь, но молодец, что показался. Наши батьки — не герцоги. Урок: себя кажи при каждом удобном случае. Опять же — учись, неуч несчастный! Что меня касаемо, так староват уже, а ты в самой поре. Еще за мое здравие и за границу прокатишься!
Видно, слишком громко учил братца. Дело-то происходило в Зимнем дворце, а там голоса ой-ёй как разносятся. Елизавета на шум из дальних покоев выплыла — отдохнувшая после ночи, беспечальная, царственная.
— Ты кого это, Алексей Григорьевич, муштруешь?
Но и без ответа было видно — кого. Кирилл изогнулся в очень даже приятном поклоне.
— Муштруй, Алексей Григорьевич. И сам учись. Братец-то не при дворе ль родился?
— При дворе, матушка-государыня, — не уронил свою марку Алексей. — Мы из реестровых все ж, у нас приличный двор был, два вола, да три коровы, да три телки…
— Телки? — расхохоталась Елизавета. — Авось посмотрим когда-нибудь? Я ведь не бывала в своих малороссийских именьицах. Раньше не пускали, а теперь кто воздержит?
— Разве что сама себя, государыня. Грязновато там у нас, необразованность опять же…
— Полно, Алексей, — остановила его и кивнула Кириллу: — Больше не держу. Показал себя, довольно.
Кирилл попятился к дверям с тем же ловким поклоном.
— А братец-то далеко пойдет!
— Ровно столько, сколько позволит его государыня.
У Елизаветы быстро смех на гнев менялся.
— Ты чем-то недоволен, Алексей Григорьевич?
Он бесхитростно, открыто и ревностно глянул на нее — и вдруг совсем не по-мужски, услужливо бухнулся на колени:
— Тяжело… тяжко, государыня! Как мне теперь вести себя?!
Она, как бы отряхивая с себя скучную позолоту, приседая, шлепнула прямо в губы:
— Вот так, Алешенька. Вот так. Быть беседушке ввечеру! Почему не веселиться? Бог весть, где нам завтра быть. Но сегодня-то?.. Сегодняшнее — оно ведь наше, Алешенька. Не сомневайся, сама дам знать…
Она выпрямилась, истинно по-царски, поплыла к дверям, в сторону приемной залы.
Там многие ждали, но никто не решился нарушить покой.
Алексей побрел в темный угол и опустился на приткнувшийся там диванчик.
Но как ему-то, человеку высоко-вальяжному, оставаться неприметным?
Быстро скользнул своей и в старости незастаревшей походкой Бестужев — приметил, поворотил:
— Алексей Григорьевич, батюшка? Что приключилось?
— Подагра проклятая… — сказал да и сам поверил. — Прямо беда, Алексей Петрович.
— Рановато, батенька, рановато. Подагра, она после ссылок бывает…
Бестужев имел право так говорить. Над ним, запанибрата с Бироном, тоже был учрежден приговор… то ли на колесование, то ли на четвертование, какая разница… и ноги могли дрожать даже под ласковым взглядом Елизаветы. Алексей ценил обходительный тон завзятого царедворца. Надежный человек, хоть и себе на уме. Кто же про себя-то забывает?
Слабости душевной как не бывало. Он приятельски взял Бестужева под руку:
— А не метнуть ли нам, в рассуждение подагры, сегодня фараона?
— Благая мысль, Алексей Григорьевич. Прямо-таки благостная!
Знал лукавый царедворец, что фараон фараоном, — вестимо, игра царская, — но винишко будет знатное. Гоф-интендант — он вроде и здесь как хозяин всего этого расхристанного, гудящего дворца. Не ранее как к третьим чухонским петухам утихомирится Зимний дворец. Нрав государыни не позволит никому рано ложиться.
Так думал Бестужев. Алексей же думал, душой провидел другое: нет, сегодня Елизаветушка нетерпеливо почивать изволит…
Не зря же бестией несколько раз уже протрусила взад-вперед, поглядывая на него, Елизавета Шувалова, ночная наперсница другой, царственной Елизаветы.
Право, не зря.
Часть четвертая
Фавор! Фавор!
Еще в день переворота, перебираясь из своего старого дома в Зимний дворец, Елизавета была встречена долго не смолкавшими криками:
— Виват!
— Виват!..
Ближе и громче всех кричали Преображенские гренадеры. Многих она знала в лицо. Имена других подсказывал Алексей, не доверивший никому переезд пресветлой императрицы. Она под славные крики вопрошала:
— Чем наградить вас, дети мои?
Просьба была одна, единогласная:
— Просим великой награды!..
— …все мы!..
— …быть, матушка, капитаном нашей роты!
Как было отказать? Ко всем званиям, в един день свалившимся на нее, прибавилось и это. Елизавета, и без того любившая мужские костюмы, тут же заказала и Преображенский мундир.
Вскоре представился и случай покрасоваться перед своей именной ротой. Снова громовое «Виват!». Единственно, что кольнуло восторженное сердце, — отсутствие Алексея. Он держался поодаль, на приличном такому случаю расстоянии. Гневно поманила его пальцем:
— Мой любезный господарь! Мой гоф-интендант! Мой камергер, наконец! Почему оставил свою государыню?
Алексей скромно ответствовал:
— Негоже штатскому человеку сопровождать генерала.
Все правильно: сержант преображенцев равнялся армейскому подполковнику, а капитан роты был полным генералом. Она женским сердцем поняла смущение своего господаря.
— Быть по сему! Так говаривал мой батюшка.
Больше на этот час она ничего не сказала, но к вечеру последовал именной Указ:
— «Понеже во время вступления нашего на всероссийский родительский наш престол полки нашей лейб-гвардии, а особливо гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность так показали…»
Тут при написании Указа возникла некоторая заминка, пришлось даже попридержать слишком скорую руку своего кабинет-секретаря:
— Погоди, шустер больно.
Как же любезного своего друга привязать к матери-командирше?
— «Понеже особливую ревность нам показал бывший на тот час наш гоф-интендант Алексей Григорьевич Разумовский…»
Все так. Ревность. И зело особливая!
Но чин?
Не в сержанты же его!
— «…Якоже мы в том благодарны есть Господу Богу, подателю всех благ, за неизреченную его милость к нам…»
Оставалось кабинет-секретарю приписать:
— «Возвести Алексея Григорьевича Разумовского в чин поручика гренадерской роты Преображенского полка».
Это было как раз то, что нужно. И ростом, и красотой, и статностью «друг любезный» вполне выходил в гренадеры, а звание поручика-преображенца равнялось генерал-майорскому.
Она срочно вызвала «друга любезного» в свои апартаменты. Известно, и раньше никто не мог понять, где кончался будуар и начиналась приемная зала. Принимали везде, где было настроение. Так повелось еще при матушке Екатерине. Так же при Анне Иоанновне и при Анне Леопольдовне. А уж при ней-то, «свет Елизавет»? Приятно на себя со стороны посмотреть глазами восторженного Алексея. Нарочно не снимала Преображенский мундир.
— Какова я, друг любезный?
Ответил как на плацу:
— Прямо-таки мать-командирша! Генеральша по всем статьям!
Она милостиво приказала:
— Значит, быть и генералу здесь же. В час машкерада, мой друг.
— Мундир не успеют сшить!
— Тогда не быть тебе генералом. Ступай.
На счастье, машкерад начинался о третьем часу ночи. Шестеро портных трудились — кому рукав, кому пола, а кому и пуговицы золоченые. Маску, прикрывавшую глаза, уже камер-лакей сотворил. Елизавета самовластной рукой и маску сдернула:
— Так-то лучше. Изрядно потрудились. Теперь вижу — генерал! Но у генерала и адъютант должен быть.
Как раз проходил мимо, изгибаясь в изящном поклоне, расфранченный испанец.
— Чем не адъютант? Хорош!
— Верно, государыня: хорош-пригож, на словеса гож… но как бы я этому испанцу снова рукав не оторвал…
Елизавета вспомнила давнее, шутку приняла, но пальчиком строго погрозила:
— Смотри, шалун-генерал! А как я осержусь? Поелику вирши мне добрые потребны. Сама-то я забыла, как их пишут. А мой учитель Кантемир в Париже. Негоже отрывать посланника для писания виршей, испанец Сумароков сподручнее. Надо беднягу хоть сладкоголосьем усладить…
Алексей знал, о ком хлопоты. О чем виршесплетения…
Где-то на Камчатке погибал сержант-преображенец Шубин. Велено было его вернуть. Как можно ослушаться! Алексей только высказал сомнение:
— Найдут ли слушателя виршей? Не одна ведь зима сибирская прошла…
— До сего мне нет дела, господин поручик! Вот первое поручение; займись самолично.
На приказ следовало отвечать одним словом:
— Слушаюсь.