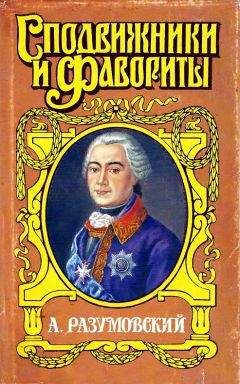На приказ следовало отвечать одним словом:
— Слушаюсь.
Но сколько же за ним хлопот крылось! Шубин, как выяснилось, был сослан Анной Иоанновной под другой фамилией. Перебирать всех — за год не перебрать. Решено было искать по возрасту да по росту Преображенскому. Дело верное: отзовется на царскую милость.
Однако ж сержанту Шубину далеко было ехать. Камчатка все-таки.
Поговорили да и забыли. До времени.
Дела, дела звали. И здесь, в Петербурге, милость подавай!
Уже 30 ноября, всего-то несколько дней спустя, состоялось первое в это царствование торжество. Особое. В честь великого родителя императрицы. Орденский праздник Андрея Первозванного. После литургии в придворной церкви императрица самолично воздела ордена троим генерал-аншефам: Румянцеву, Чернышеву и Левашову. Кавалеры прежнего, малого двора цесаревны, Петр и Александр Шуваловы, Воронцов и, конечно, Разумовский, сделаны действительными камергерами большого двора. При последнем объявлении был тихий шепоток:
— Чего еще изволите, мой самый молодой камергер?
И тихий ответ:
— Вашей вечной молодости, государыня.
— Молодости не помешает и тебе, камергер. А ну как я увлекусь?..
Была в этих словах истинная правда: сколько блестящих отпрысков, графьев и князьев, в гвардейских полках! Всех надо было благодарить — и все ответно благодарили императрицу. И было за что: одним солдатам на Преображенский полк выдано двенадцать тысяч рублей. А там — семеновцы, измайловцы, конногвардейцы. Но, конечно, особая честь гренадерской роте: она получила название лейб-кампании. Даже рядовые удостоились деревенек и потомственного дворянства с надписью на гербе: «За ревность и верность». А ведь были и такие, как адъютант Грюнштейн, сын саксонского крещеного еврея, которому пожаловали 927 душ. Каково!
Свои деревеньки Алексей Разумовский уже перестал считать. Гостилицы, конечно, на особом, ласковом счету, но благости являлись и в других пригородах Петербурга, и в Подмосковье, и, что особенно хорошо, в Малороссии. Само собой, в Черниговской губернии. Мать камергера и потомственного дворянина — не могла же теперь держать винный шинок?
С таким наказом и отправил Алексей очередного фурьера.
Фурьер прискакал весь в пыли с ног до головы. Он хоть и был из казаков, но эти места не знал. Долго плутал по окрестностям. Расспросы мало что давали. Разумовские?.. Да не, нема таких. Кто-то надоумил:
— Можа, Розумиха?..
Может, может! Он гонял лошадей как оглашенный. Великую честь следовало с великим тщанием и оправдать. Письмо за личной подписью Государыни. На прощание и друг императрицы — о Господи, да он же знает, что за друг! — камергер Алексей Разумовский потрепал по плечу и попросил — попроси-ил ведь! — скажи, мол, матушке: пускай бросает свой шинок, у нее теперь своя деревенька будет, понял? Как не понять, шановный пан! Свой брат, хохол, панскую вежливость не забыл. А и всего-то — армейский поручик…
Алексей Разумовский задумался.
— Нет, негоже, чтоб к матери камергера приезжал поручик. Полковник? Я попрошу государыню, надеюсь, не откажет. Деревеньки, деньги — все будет в лучшем виде, полковник. Государыня в письме пишет, но и на словах объясните: пусть мать собирается в Москву. На коронование, да! Вы понимаете всю важность поручения, полковник?
— Понимаю, ваше сиятельство. Но позвольте уточнить: сейчас или чуть погодя везти матушку?
Опять было о чем подумать. Не его же личная коронация…
— Чуток погодя. По другому, высочайшему приглашению. Тебе надлежит лишь приготовить мать к этой поездке.
Крепкая рука еще раз потрепала рукав армейского мундира, на котором еще не было полковничьих отличий. Ну, да ведь не дурак, сообразит. В дороге приоденется.
Как мог поручик, сразу ставший полковником, пренебречь таким доверием! Он чистил и приводил себя в порядок в Чернигове, дочищал в Козельце, драил всю походную сбрую до самых Лемешков. Маленько прояснялось, где следует искать Наталью Демьяновну. Встречные хохлы чесали заросшие потылицы и размышляли:
— Хтось? Бувал нехто Розум, казак дьяблый. И шо? Помер Розум от горилки. Розумиха?.. Ды она в шинке. Гарная у нее горилка! Сам, добрый пан, попробуй. А яще лучше — и нас угости…
Да разве всех встречных хохлов наугощаешь! Он дальше гнал лошадей. Пожалуй, вот это и есть — шинок?..
Как и положено, резво выскочил из кареты, треуголкой обмел носки пропыленных ботфортов. Ничего с ней, с пылью здешней, не сделаешь. Хоть всего себя метлой мети!
Шинкарка дело свое знала, сама из дверей при виде гостя выскочила. Немолодая, но все еще румяная хохлушка. В плахте[8] красно-зеленой, в каком-то татарском тюрбане. Сапожки козловые, знай ваших и наших! По всему видать, шинок приносил доход.
— Наталья Демьяновна?
— Яна самая, — смело отвечала, уже привыкла к обхождению с офицерами проезжими.
— Вам личное послание от сына и при нем письмо государыни…
Дополнение она пропустила мимо ушей, а основное схватила:
— Сынуля?! — Аж зазвенели стеклярусы ожерелья. — Як жа ён?
Фурьер немного обиделся за пренебрежение к письму государыни, но что возьмешь с шинкарки! Она свое:
— Сынуля, надо ж… Благодарствую, шановный пан. Прошу до нашего стола.
Фурьер откашляться от пыли не успел, как уже сидел на лавке, застланной лучшим гостевым ковром. Подавали ему пить да есть сразу четыре дивчины, не считая самой шинкарки. Он все наказы перезабыл, одно твердил:
— Невест-то сколько у вас!..
— А як жа, — лукаво отвечала шинкарка. — Любую в жинки выбирай…
— Вот возьму и выберу! — соглашался посланец, засыпая, — и от усталости, и от вина очень даже хорошего.
Надо же, восемьсот верст проскакать до этого Богом забытого шинка… Хотя забытого ли? Уж больно хорошо его здесь привечали. Сколько-то раз просыпался, снова укладывался спать, все твердя про невест… да и спал ли когда?.. Трое дочек всегда рядом крутились да какая-то племянница… значит, племянница камергера?.. Все у него в голове круговертью шло. Он сознавал, что не передал еще из наказов чего-то важного, но ведь не последний же день? Вот так подорожный шинок! Добрые вина в его чару лились. Он открывал левый глаз — венгерское, кое-как правый — ей-богу, не французское ли шипит?.. В Петербурге, несмотря на свою малость, все-таки видывал виды. Ах, хозяюшка-шинкарка!
— А что? — созревал он для какого-то более трезвого решения. — Вот возьму да и оженюсь! Вот с вашего соизволения, Наталья Демьяновна…
— С соизволения сынка, Алексея Григорьевича, — поправляла его хозяйка.
— Камергера моего любимого?.. — уже не знал удержу посланец, совершенно опьяненный видом четырех невест. — У Алексея Григорьевича и руки испрошу! Разве он откажет своему полковнику?.. Да, тещица дражайшая! — смелел он все больше. — Я теперь полковник. Полков…
Так и засыпал, не договорив.
А под его храп Наталья Демьяновна думала: «Ну и дурня же мне сынок прислал! Як мой покойный Розум…»
Но в думах ее, по прошествии стольких лет, было доброе всепрощение.
По возвращении в Петербург новоиспеченный полковник доложил все как следует. Его шалопайства Алексей Разумовский не заметил. Да ему и не до расспросов было: новая напасть в этот же день на голову свалилась. Сержант Шубин! Собственной своей драной персоной…
Как ни далека была Камчатка, а вести о перемене царствования по легкому зимнему пути и туда дошли. Как бы предчувствуя изменение в своей судьбе, сержант Шубин без всякого разрешения навстречу своим вестям пустился. Известно, дорога-то единственная, на полпути доброго гонца встретил. Так что невообразимо быстро и в Петербурге оказался.
Алексей только что обжился в отведенном для него крыле громоздкого, скрипящего деревом Зимнего дворца. Вход, разумеется, был отдельный. Боковое крыльцо, обрамленное резными, пожухлыми столбушками, никому не бросалось в глаза. Столбушки, когда-то крашенные корабельной охрой, выцвели первозданно, из чего можно было заключить: давненько не бывало пожаров. Дерево есть дерево: одинаково горят и царские дворцы, и распоследние чухонские хижины. Дворцы-то даже пожарче: масляной краской напитаны. Но вот же — Бог миловал. Пережила невская сосна и болезненные стоны Анны Иоанновны, и зверски красивого полюбовника Бирона, и кроличий страх диковатой Анны Леопольдовны и вот досталась в наследство, на тридцать-то третьем году, развеселой дочери Петра Великого. Елизавета, как только хозяйкой вошла в эти старые стены, пригрозила: «Сожгу… по бревнышку раскатаю! Каменный дворец потребен». Но пока было не до камня: с первых же дней очередная шведская война навязалась, суды-пересуды над немцами, всеми этими Минихами, Остерманами и Левенвольдами, да и самой-то пожить надо? Нет, камень оставался пока в нежных мечтаниях. «Бр-р, свет Алешенька! Когда уж сырость эта клятая окончится?..» — вот и все, дальше того дело не шло.