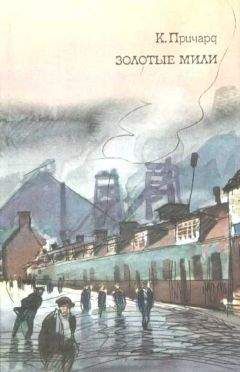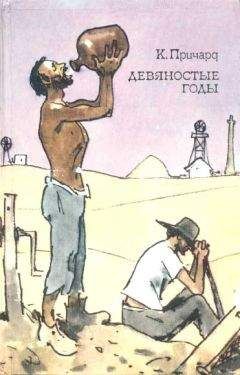— Моя жена Люси, — сказал Ральф, указывая взглядом на молодую женщину, подошедшую и ставшую с ним рядом. Ее распущенные волнистые волосы, очень светлые да еще выгоревшие на солнце, казались неудачно выкрашенными. На солнце они отливали золотом. Однако, по словам Динни, это была чистокровная австралийка. Динни доводилось встречать и других австралиек с такими же волосами, и это были вовсе не метиски.
Люси — очень стройная в своем бледно-голубом ситцевом платье — фыркнула и спряталась за спину Ральфа. Она держала за руку мальчика, совсем голенького, если не считать изодранной рубашонки, едва доходившей ему до пупка.
— Мой сын, — с гордостью и любовью заявил Ральф.
В эту минуту от толпы отделилась худенькая девочка, очень грязная и оборванная.
— А это Вероника, — сказал он. — Она сильно болеет. Вся в болячках.
При взгляде на это заброшенное маленькое создание с большими голодными глазами у Салли заныло сердце. Она догадалась, что у девочки венерическая болезнь. Надо как-то спасти бедного ребенка. Но Салли знала, что кочевники решительно воспротивятся всякой попытке увезти Веронику из лагеря. Девочка, конечно, уже обещана в жены кому-то из мужчин.
Старуха с воспаленным морщинистым лицом и красными глазами подбежала к Веронике и увела ее прочь.
— Надири сказал, что это болезнь белых, — пояснил Ральф. — Старая Гининга боится, что придет полиция и заберет девочку.
Салли оделила детей леденцами, яблоками и апельсинами и дала несколько пачек печенья и две банки джема Калгурле — она знала, что старуха поделится с остальными.
Тем временем Пэм успела познакомиться кое с кем из женщин.
— Это Мэри Хохотушка, — сообщила она и рассмеялась, глядя на дебелую молодую женщину в красном платье, очень чистенькую и круглоглазую. — Она работает на ферме у миссис Браун. А это Канэгира. Бедняга — ее прозвали Сломанный Нос!
Нос Канэгиры, застенчивой широкоскулой женщины, действительно был сломан — над ее большим перекошенным ртом торчал какой-то обрубок. Видно, еще в детстве кто-то нанес ей сильный удар по лицу. Карие глаза Канэгиры смотрели так печально, словно она ни на минуту не забывала о своем уродстве. Ее рваное голубое платье было все в грязи.
— Это жены Коббера, — пояснил Ральф. (Коббер был второй гуртовщик.) — Они всегда дерутся. Коббер больше любит Сломанный Нос.
Мэри прыснула, а у застенчивой Канэгиры рот еще больше скривился в улыбке — казалось, они смеялись над чем-то, известным только им одним.
В отдалении показалась высокая круглолицая, уже не молодая женщина. Из-под ее измятого платья в цветочках торчали худые черные ноги. Она повязывала на ходу голубой фартук поверх выступающего живота и весело улыбалась.
— Постыдись, Мэри, — крикнула она, — у тебя нижнюю юбку видно!
Мэри Хохотушка без всякого стеснения задрала подол своего красного платья и подоткнула повыше грязное тряпье под ним.
— Никак это Налка! — воскликнула Салли. — Помнишь, как ты приезжала ко мне в Хэннан вместе с Маританой.
— Угу, — кивнула Налка, и лицо ее помрачнело.
Салли поняла, что допустила ошибку, упомянув о Маритане. Лица вокруг нее стали суровыми, с них исчезла улыбка: люди исподтишка обменивались взглядами, угрюмо переступали с ноги на ногу. Туземцы никогда не говорят о своих покойниках, а имя Маританы напомнило им о ее трагедии и о том, что тайна смерти этой женщины так и осталась нераскрытой. Салли готова была побить себя за то, что упомянула о ней.
— Ты ведь жила тогда при миссии, — весело, как ни в чем не бывало, продолжала Салли, обращаясь к Налке. — Миссис Браун говорила мне, что ты работаешь на ферме: готовишь, говорят, замечательно и стираешь, как никто.
Налка заулыбалась, лицо ее сразу просветлело.
— Куда там, совсем обленились старые кости, — с довольным видом заявила она. — Сижу на одном месте, хожу немного туда-сюда. Хорошо здесь, много еды, много цветов. Дочка моя — Сэйди — в миссии, совсем большая стала, пишет письма.
Из висевшего у нее на поясе мешочка Налка достала клочок грязной бумаги. Сама она не умела ни читать, ни писать, но очень гордилась успехами дочери.
— Расскажи им, — кивнула она в сторону Пэт и Пэм, — что моя дочь Сэйди пишет в письме.
Салли прочитала вслух письмо, написанное четкими круглыми буквами.
«Дорогая мама, — говорилось в нем, — надеюсь, ты в добром здоровье. Мне здесь очень хорошо. Целый день мы молимся богу. Надеюсь, ты тоже молишься и воздаешь хвалу господу. Надеюсь также, ты не пьешь пиво и не ходишь в кино. Это большой грех. Я так счастлива, что Иисус хранит меня. Твоя любящая дочь Сэйди».
Письмо произвело на всех большое впечатление, а Налка так и сияла; она поспешно отобрала его у Салли и спрятала в свой мешочек. Но Мэри вдруг залилась веселым журчащим смехом.
— Слыхали, Налка не пьет бешеной воды, — прыснунула она. — Нет? А кто же напивается и дерется с Гинингой? Не она? А потом лежит целый день в холодке и хр-р, хр-р. — Мэри изобразила, как храпит и сопит во сне пьяная Налка.
Обозлившись, Налка закричала и замахала руками на насмешницу, но тут и остальные женщины стали потешаться над Налкой — надо же сбить с нее спесь, чтобы она не слишком важничала перед гостями!
Калгурла громко прикрикнула на них, и Налка сразу умолкла; смех оборвался.
— Они не согласились бы спеть нам? — спросила Пэт, которой не терпелось послушать, как поют кочевники.
Но тут всеми почему-то овладела робость. Женщины, смущенно хихикая, сбились в тесный кружок, мужчины потупились — никому, как видно, не хотелось угождать гостям.
— Да вы что? — воскликнул Динни. — Боитесь этой молодой леди, что ли?
Ральф опустился на землю рядом с женой и сыном. Мерно ударяя двумя дощечками друг о друга, он тихо затянул песню. Салли догадалась, что он, должно быть, у них «йемна» — певец-импровизатор, а также предводитель «тулгу» — так на местном наречии назывался национальный танец «корроббори». Пэт подошла ближе послушать его.
— О чем ты поешь? — спросила она.
— О дереве вилга. — Ральф указал на тонкое, стройное дерево, растущее неподалеку. — Слушай:
Когда встает Гинду,
Вилга вся сияет,
Вонгаи просыпаются.
Гинду ходит в небе,
Вилга сладко пахнет,
Вонгаи бьют зверя.
— Это значит — охотятся, — добавил Ральф и улыбнулся.
Гинду стоит в небе,
Вилга…
Ральф умолк и потупился: нужное слово никак не шло на ум.
Вилга опускает листья,
Тень бежит с земли,
Вонгаи боятся.
Солнце снова садится,
Вилга бросает тень,
Вонгаи спят.
Старик с подстриженной бородой и маленькими гноящимися глазками подошел поближе и уселся под деревом. Куртка и штаны у него были измазаны в красновато-коричневой земле. За стариком к дереву потянулись и другие. Они сидели на корточках и даже на таком близком расстоянии казались неотъемлемой частью пейзажа: их выцветшая, перепачканная в пыли и грязи одежда сливалась с листвой молодого черного дерева и с побуревшей зеленью кустарников.
Старик ударил дощечкой о дощечку и запел:
Би-дил, би-дил, минонгрила,
Бумбо-йогонинг.
Кирн-дел, кирн-дел, минонгрила,
Бумбо-йогонинг.
Марра-бри, брибо-гэнинг,
Йарра-бри, брибо-гэнинг.
И он повторил этот куплет; остальные подтягивали, не нарушая своеобразного ритма песни. Она оборвалась на драматическом возгласе, и все рассмеялись.
— Человек в горах рубит дерево, — перевел Ральф. — Он смотрит на юг и видит: собирается гроза. «Кирн-дел, кирн-дел» — это стучит топор. «Йарра» — это воет ветер и дождь хлещет по деревьям так, что они дрожат.
Пэм сделала беглый набросок с шалаша Ральфа, перед которым была натянута веревка. На ней развевались две рубашки, какие-то розовые тряпки и крохотные детские штанишки. Люси в свое время тоже работала при миссии, сообщил Ральф. Она привыкла стирать белье как следует и специально ходит на ферму за водой.
— Каждый день стирает, чтобы малый у нас чистый был, — хвастал Ральф. — Просила привезти душистого мыла и талька из Боулдера, когда хозяин посылал меня туда с лесом. Люси умеет петь, как в миссии. Спой, Люси, «Иду за Иисусом».
Люси запела тихо и мелодично с той особой заунывностью и в том особом и неподражаемом ритме, которые свойственны напевам австралийских племен:
Ван-элгу, ван-элгу, гнар-у
Иисус ван-элгу.
Нанг-у, гуд-уу, бала гуд-уу
Гнар-у балауна ван-элгу.
Ван-элгу, ван-элгу, гнар-у
Иисус ван-элгу,
Нанг-у, гуд-уу, бала гуд-уу
Гнар-у ван-элгу.
Одна есть дорога, другая дорога,
Иду по дороге твоей.
Иду по дороге, иду по дороге,
Иисус, по дороге твоей.
Одна есть дорога, другая дорога,
А я — по дороге твоей.
В эту минуту из зарослей вышли три женщины и направились к стойбищу. Все — мужчины, женщины, собаки — бросились им навстречу. Они возвращались с охоты. У одной из женщин, пожилой и сухопарой, с пучком седых волос на подбородке, висел за спиной большеногий петух. Старуха бросила его на землю. Связанный петух трепыхался и бил крыльями.