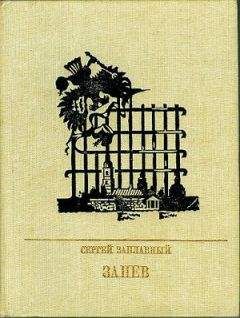Весь день его жгла тревога: не помешает ли внезапно обострившаяся болезнь Пожарского делу, с которым прибыл в Ярославль Палицын, а если нет, то договорятся ли они о времени выступления нижегородского ополчения к Москве?
К вечеру стало ясно: договорились. Об этом с великой потайкою сообщил Кириле Семейка Самсонов. Пожарский пообещал Палицыну и соборным старцам Троице-Сергиева монастыря, что уже до Владимира-Красна-Солнышка [51] выступит под Москву его передовой отряд, а после переговоров с новгородским посольством, которые состоятся в Ярославле, и вся остальная рать следом двинется. Нельзя сказать, что Палицын остался доволен таким решением, но и недовольства большого не выказал. На очереди у него встречи с Морозовым, Долгоруким и другими боярами, стоящими во челе Совета всей земли.
«Теперь Авраамию не до меня будет, — полуогорчился-полууспокоился Кирила. — Ну и пусть! Хватит и того, что я с братом увиделся».
Однако утром следующего дня Афанасий Евдокимов, глянув в окно, всполошился:
— Мать честная! Никак сам троицкий келарь к нам пожаловал! Не к тебе ли случаем, Кирила Нечаевич?
Кирила поспешил к окну. И правда, у Посольской избы остановилась монастырская коляска. Из нее вышел Авраамий Палицын и, сопровождаемый Иванцом, неспешно проследовал к переднему крыльцу. Вскоре его шаги послышались на лестнице. Отворилась дверь, и в палату вплыл раскатистый голос:
— По здорову ли живешь, чадо? Встречай на досуге!
Кирила припал губами к его руке, пахнущей благовонным маслом, а Палицын в ответ по голове Кирилу погладил:
— Ну вот и свиделись! Дай-ка я на тебя погляжу… Слов нет: возмужал, возмужал! И к делу пристрастен. Я тут успел немало похвальных слов о тебе услышать и премного рад этому. Так и будь, чадо! А лист со слаганием, что Феодорит от тебя намедни явил, и вовсе меня утешил. Теперь моя душа за тебя спокойна: на правильное место Бог тебя вывел…
Палицын говорил, не давая Кириле слова вставить, но это Кирилу не тяготило. Напротив, он рад был, что ему можно только смотреть и слушать, слушать и смотреть.
А за окном играло лучезарное солнце, какое обычно бывает на день святых апостолов Петра и Павла. По народной примете с Петрова дня лето красное начинается, зеленый покос. Каков-то он на самом деле будет?
Миротворное слово, данное Авраамию Палицыну, Дмитрий Пожарский исполнил в точности. В середине июля он отправил под Москву конных дворян с боевыми холопами — общим числом в четыреста сабель. Отряд хоть и небольшой, но отборный: у каждого за плечами не одна схватка с неприятелем. А воеводами над ними князь поставил московского дворянина средней руки Михайлу Дмитриева и потомка захудалого тверского боярства Федора Левашова.
Выбор на них пал не случайно. Дмитриев еще при царе Иоанне Грозном службу начинал. Ратным духом крепок, в делах междоусобных многоопытен, судьей на различных тяжбах и сложных переговорах бывал. Когда поляки Гонсевского Москву с холодным расчетом выжгли, в ополчение к Прокопию Ляпунову подался. Ляпунов Дмитриева и его людей с честью принял, а самого Михайлу Самсоновича своим соратником и советником сделал. Так что в подмосковных делах Дмитриев как никто другой сведущ. Он знает, чего от засевших в Кремле и Китай-городе поляков и седьмочисленных бояр ждать, как вести себя с рыскающими в поисках кормов отрядами Яна-Кароля Ходкевича, но особенно — как в отношениях с Трубецким и Заруцким промашки не дать. Уж он-то их двоедушную натуру знает.
Левашов вдвое моложе Дмитриева, а потому излишне горяч, нетерпелив, а порой неуживчив, но силы и смекалки ему не занимать. Любое слово Михайлы Самсоновича для него неоспоримо. Это после Пожарского, пожалуй, единственный человек, которому он готов подчиняться беспрекословно. Именно такой товарищ и нужен на походе Дмитриеву. Один другого дополнит, а надо будет — и заменит.
Отправляя их в дорогу, Пожарский наказал:
— Ваша задача, други, в Москву во что бы то ни стало войти, между Тверскими и Петровскими воротами острожек поставить и рвом его тотчас обнести. В стан Трубецкого, а тем паче Заруцкого, входить не велю, даже если они звать к себе станут. Однако всех, кто от них захочет к вам перейти, принимайте. В первую голову казачью голытьбу и земских охотников. Они от своих атаманов столько всякого натерпелись, что держаться за них не будут. При этом смотрите, чтобы кто во измене к вам не явился. Но главное, повторяю, в Москву войти, первую ногу там поставить.
— Хорошо задумано, Дмитрий Михайлович, — похвалил Пожарского Федор Левашов. — А кабы сразу двумя ногами ступить, так еще бы и лучше было!
— Лучше-то лучше, да нам во все стороны глядеть надо. Чай, не одна Москва внимания требует, другие направления тоже. А ну как шведы из Тихвина по Белозерску ударят? Ныне без выхода в Поморье нам не сдобровать. Всему свой черед. Пока с новгородцами о мирном соседстве не уговоримся, трудно мне полки в одну сторону разряжать, — тут Пожарский перевел взгляд на Дмитриева: — А ты что молчишь, Михайла Самсонович? Или другое мнение имеешь?
— У меня одно мнение: каждый на свое дело переложиться должен, — спокойно ответил тот. — Сделаем, Дмитрий Михайлович! Нельзя не сделать.
— Ну тогда в путь! — обнял его Пожарский. Затем обнял Левашова: — Не подведите, родимые. Сохрани вас Бог…
Он чувствовал себя бодрым и здоровым. Ни озноба, ни стеснения в груди, ни кружения головы, которые обычно предшествовали приступу черной немочи, князь не испытывал. Маньяки [52] у него перед глазами не появлялись, топтаться на месте его не тянуло, однако последний приступ падучей, случившийся неделю назад, научил его не обольщаться внезапному приливу сил…
В тот раз, почувствовав такую же, как сегодня, легкость в теле и желание не медля заняться делами, которых за время его болезни накопилось превеликое множество, Пожарский велел своему стремянному Роману Балахне заседлать Серка. Прямо с крыльца шагнул в стремя и, раздумывая, куда ему следует отправиться в первую очередь, сделал по двору круг, потом другой, третий. День выдался жаркий, безветренный. Конь шел боком, ожидая, пока перед ним распахнут ворота, нетерпеливо частил ногами.
И вдруг князь ощутил, как изнутри его, раздирая грудь, исторгается нечеловеческий крик. Он сам не узнал свой голос. По телу прокатилась внезапная судорога, руки и ноги свело, голова запрокинулась, небо перевернулось…
Очнувшись, Пожарский долго не мог понять, где он, что с ним. Наконец сообразил, что лежит на земле, под сплетенным из лыка теремцом [53], другое лыковое плетение втиснуто ему меж зубов, кафтан на груди расстегнут, под голову положено что-то мягкое, а мизинец левой руки придавлен подошвой широкого в носке сапога из зеленой юфти. Чей это сапог, он сразу догадался. Ну, конечно, Кузьмы Минина. Так он припадок черной немочи останавливает. Вот же дал Бог человеку способность чувствовать, где он в этотчасец нужен. Можно сказать, счастливый случай, а можно сказать: так и быть должно.
Другой счастливый случай — поведение Серка. Когда у Пожарского судорога началась, конь не вздыбился, не понесся вскачь, как сделал бы другой жеребец, почувствовавший лихорадочные удары стремян, а остался стоять на месте, еще и крупом заметно осел, будто зная, что надо делать. Подоспевшие на помощь Роман Балахна и Кузьма Минин подхватили князя на руки и без ушибов уложили наземь.
С виду Серко и впрямь сер: темная шерсть у него с белой перемешана, но белой значительно больше. Он ею, как сединой, припорошен, хотя летами еще не стар — об этом говорят не исчезнувшие до конца яблоки на боках, густая черная грива и такой же черный упругий хвост. Рядом с иноходцами бояр, возглавляющих Совет всей земли, Серко не смотрится: слишком уж простоват, не породист. Разве такой скакун большому воеводе ополчения положен? Но Пожарский его не за масть любит, а за преданность и понимание. И Серко отвечает ему взаимной любовью.
Не менее предан Пожарскому Роман, невидный из себя молчун с рябым от оспы лицом и печальными глазами. В прежние годы он ломал соль в Балахне, а когда его земляк Кузьма Минин, ставший нижегородским старостой, призвал народ не жалеть имущества и животов своих на строение ратных людей, одним из первых отдал в общую казну все, что имел. Минин ему безоговорочно верит, потому и убедил Пожарского взять Романа к себе вторым стремянным. И правильно сделал. В отличие от молодцеватого рязанца Семена Хвалова его обычно не видно и не слышно, но в нужную минуту он всегда оказывается рядом. Вот как сейчас.
— Рано тебя молодечество взяло, Димитрий Михайлович, — с ласковым упреком склонился над распластанным посреди двора князем Минин. — Придется тебе еще чуток на покое побыть. И без тебя управляемся.