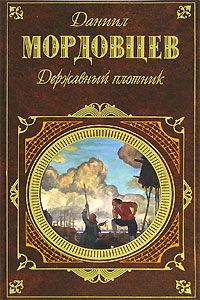Как и прежде, они думали, что то, что сказал сейчас великий князь, он скрепит крестным целованьем — присягнет, что будет держать свое слово. Так у них велось от старины. Поговорив тихонько между собою, покачав безнадежно головами и утерев не одну слезу, они снова обратились к боярам:
— Бьем челом, — поклонился боярам владыка, — чтоб великий государь дал крепость своей отчине — грамоту... и крест поцеловал.
Бояре пошли во внутренние покои князя.
— Прощай, наша волюшка! — вздыхали старые новгородцы. — Прощай, вольный свет!
Бояре скоро воротились.
— Великий осударь креста целовать не будет, — был короткий ответ.
Новгородцы недоумевающе посмотрели друг на друга. Их уже, казалось, ничто не удивляло... Так много они видели и слышали и так глубоко переболели душой, что им уже было почти все равно... Не все ли равно умирать! Но они должны были дать отчет Новгороду, отчет тем родным братьям, сестрам и детям, которые доверили им все, что им было дорого на свете, и теперь ожидали их в мучительном неведении и страхе.
— Так вы, братие, целуйте крест за великаго государя, — прервал владыка мучительное молчание, глядя робкими глазами в круглые, бесстыжие глаза Бородатого.
Бояре опять пошли к государю.
— И боярам великий государь креста целовать не велит, — вынесли они короткий ответ.
— Так хотя наместник, что будет в Новегороде, пусть крест целует! — взмолился владыка.
Опять ушли и опять воротились.
— Целовать креста не будет и наместник! — был последний ответ великого князя.
Что оставалось послам? Идти и броситься в ноги всему Новгороду — выплакаться, по крайней мере, перед ним, выкричать боль души, позор, отчаянье да подумать всем Новгородом, вымолить себе помощь у Бога, у святой Софии, у всех сил небесных, а потом умереть на родном пепелище, как умирает волчица, защищая своих детей...
Но дедГрозного подумал об этом раньше. Он знал, что и курица защищается, когда ее режут, что и воробей клюет когти ястреба, пока они не растерзают его, не лишат способности трепыхаться.
А Новгород еще трепыхается... Надо его выморить совсем... Надо так «ускромнить» это племя, чтоб его и на семена не осталось, чтоб не взошло оно вновь, не дало новых порослей... Тогда уже новгородская земля «не отрознится» от низовской земли, от Москвы...
Вот что думал «собиратель земли русской» — и не пустил новгородских послов из своего стана. Он знал, что в городе мор — пусть же вымрут сами змееныши, волею Божиею, а не его, великого князя, повелением...
И оно вышло так, как он удумал — «как ему Бог и Пречистая его Матерь на сердце положили».
30 декабря явился в стан последний защитник Новгорода — наш старый знакомый, князь Василий Шуйский-Гребенка.
Послы увидели его, обрадовались было ему, как родному: свой человек, долго жил с ними, бился за Великий Новгород, за святую Софию и за волю новгородскую.
— Что, князь Василей, почто прислан? — спросил его владыка, осеняя крестом.
— Я, владыко святый, не прислан. Сам пришел.
— Что так, княже?
— Вчерась откланялся Господину Великому Новугороду.
Феофил, казалось, не понимал его — он не хотел понимать.
— Что, княже?.. Не уразумею я тебя.
— Вчерась, говорю, на вече, пред всеми оставшимися вживе людьми сложил есми с себя крестное целованье Господину Великому Новугороду, благодарил за хлеб, за соль... Уже я Новугороду не слуга...
Владыка все понял. Но ему страшно было спрашивать дальше — и все-таки спросил:
— А как же мы?
— Надоть покоритца — на то воля Божья... Новгород уже, владыко, не Новгород, а, сказать бы, пустой улей — пчелки все, почитай, вымерли, и мед осы растаскали... Я пришел служить Москве.
Великий князь ласково принял последнего потомка некогда могущественных, а потом низложенных владетельных князей суздальских — «захудалаго» князя Василия, последнего «кормленаго» князя Господина Великого Новгорода.
Узнав от него, в каком отчаянном положении находится Новгород, Иван Васильевич приказал позвать к себе новгородских послов на очи. Они ожидали услышать от него последнюю волю, но услыхали опять что-то старое, загадочное, зловещее.
— Вы мне били челом, чтоб я отложил гнев свой, не выводил бы людей из новгородской земли, не вступался в вотчины и животы людские, чтоб суд был по старине и чтоб вас не наряжать на службу в низовские земли, — проговорил он, глядя неподвижно на наперсный крест Феофила. — Я всем сим жалую отчину свою, Великий Новгород.
И ни слова больше. Поворотился и велел послам уходить. Те поклонились и попятились к дверям... Зачем же звал?.. Они это давно от него слышали... Новое лукавство!
А лукавство было вот в чем. Едва послы вышли, как к ним вышли и бояре.
— Великий князь велел вам сказать вот что: чтоб-де наша отчина, Великий Новгород, дал нам волости и села: нам-де, великим государям, немочно без того держать свое государство на своей отчине, в Великом Новегороде.
Надо было отдать и села, и волости — все отдать! Да еще дань — по полугривне с сохи!
Убитые горем и измученные, не смея поднять глаз к родному небу и на святую Софию, возвращались послы в свой некогда шумный и веселый, а теперь почти вымерший улей.
Проходя мимо вечевой колокольни, они не решались поднять глаз, чтобы взглянуть на свое сокровище — на вечевой колокол, как ни хотелось им видеть и слышать его в последний раз...
Но с этого дня колокол уже не звонил!
— Переставился, колоколушко мой!.. Помер, помер, родной мой батюшка... О-ох! — рыдал навзрыд вечевой звонарь, обнимая и целуя холодную медь...
XXI. УВОЗЯТ ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ И МАРФУ-ПОСАДНИЦУ
— Князь великий Иван Васильевич всея Русии, государь наш, тебе, своему богомольцу, владыке, и своей отчине, Великому Новгороду, глаголет так: «Ты наш богомолец, Феофил, со всем освященным собором и вся наша отчина, Великий Новгород, били челом нашей братьи о том, чтоб я пожаловал — смиловался и нелюбие сердца сложил. Я, князь великий, ради своей братьи жалую свою отчину и отлагаю нелюбие. Ты, богомолец наш архиепископ, и отчина наша написали грамоту, на чем-де били нам челом и целовали крест, ино пусть топерь все люди новгородские, моя отчина, целуют крест по той же грамоте и оказывают нам должное. А мы вас, свою отчину, и впредь хотим жаловать по вашему исправлению к нам.
Так говорил князь Иван Юрьич всему Новгороду от имени великого князя. Это было 15 января 1478 года. Он говорил на Софийском дворе — там, где когда-то мы видели весь Новгород при избрании владыки Феофила. С того времени прошло восемь лет, а как изменился с тех пор Новгород! Как редки стали толпы, слушавшие теперь московского оратора.
Они точно не понимали, что им говорилось: так дико звучали в их ушах слова — «смиловался», «нелюбие сердца сложил», «жаловать хотим»; так не согласовались эти слова с тем, что они видели, что пережили... «Где же Бог? — думали они. — Где правда?»
«А вон где Бог, вон где правда: у владыки Феофила в руках, на серебряном кресте... Вон где Бог — на кресте!.. Правда распята — вон где правда на земле — на кресте она, правда-то... И ручки и ножки гвоздями прибиты, да крепко-крепко ко кресту приколочены, чтоб и не сойти ей, правде-то, со креста... И ребрушки у правды-то, у Бога, прободены копием, до самаго сердца прободены, за то, что любовию к бедным людям билось это сердце... Так вон где Бог!.. А мы ищем его... Вон Он — и святую головку на плечико склонил»... — в каком-то забытьи думал «придблянин», глядя на распятие, которое сверкало в руках владыки.
— Целуйте слово и крест Спасителя нашего! — возгласил князь Иван Юрьич.
И все стали целовать книгу, что сохранила слова Спасителя, и крест, на котором Его распяли... Это присягали новому государю — уже не Господину Великому Новгороду.
Присяга шла по всем соборам, по всем церквам, во всех пяти концах. Бояре, бывшие посадники, тысячские, житые и бывшие власти Новгорода приводились к присяге на Софийской стороне московскими боярами, а на торговой стороне — детьми боярскими и дьяками.
По церквам, площадям и улицам слышался плач. Новгородцы целовались и прощались друг с другом, знакомые и незнакомые, друзья и недруги, кланяясь один другому в землю словно в «прощеный день».
Видя слезы старших, по всему Новгороду плакали дети, отыскивая матерей и отцов, которых гнали к присяге. Слышался лай и вой собак, которые на лицах людей читали что-то недоброе. Ревел некормленый скот, которого давно и кормить было нечем.
Многие спешили на могилы отцов, чтобы проститься с ними и с новгородскою волею.
Слепой Тихик, ходя по улицам, продолжал петь «со святыми упокой». Во всех церквах шел перезвон как по покойнике. Это заметили москвичи и не велели звонить. Тогда общий плач стал еще слышнее и раздирательнее. Павша Полинарьин, бывший жених Остромиры, пригнанный в церковь для присяги вместе с прочими, не хотел целовать креста.