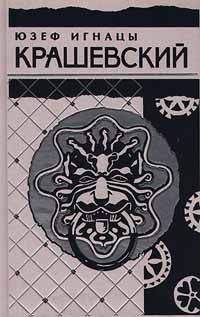с высохшими губами, качаясь, говоря сам с собой, не ведая, куда идёт, притащился он к дому, машинально. Он заметил там ожидающего его Славского, а по лицу Орбеки легко было понять, что случилось. Славский не смел его даже спрашивать. Вошли в дом, Валентин молча упал на стул.
– Слушай, – сказал Славский, собирая великую отвагу, – я знаю, что с тобой, но…
– Молчи, – ответил Орбека, – молчи, прошу тебя; я знаю, что ты скажешь, прикажи мне ехать. Поеду, но раньше, будь что будет, видеть её должен, от этого не отступлю.
Славский поглядел на него с сожалением, взялся за шляпу и сказал:
– Ежели это сделаешь, ежели о том стараться даже будешь… Валентин, я с тобой дружбу разрываю навсегда.
Орбека чуть не плача бросился ему на шею.
– Я должен с ней увидеться! Два слова… Какая может мне грозить опасность? Ты жестокий! Смилуйся!
– Не знаю, грозит ли тебе какая опасность, – сказал Славский, – но за наибольшую я считаю, что должен будешь унижаться, запятнать себя… что, победивши, вернёшься в эту лужу.
– Ты не знаешь! Я чувствовал, я знал, что должен её увидеть! Я это ждал… я был уверен, что она сюда приедет.
Славский признал правильным, не вдаваясь уже в дальнейший разговор, лицом только показывая ему чуть ли не презрение, смешанное с состраданием, уйти. Едва двери за ним закрылись, Орбека выбежал из дома на разведку, а, зная связь Миры с пани Люльер, направился сначала к ней домой, под Краковскими воротами.
Но в это таинственное убежище тех, что виденными быть не хотели, попасть не всегда было легко. Внизу швейцар формальной индагацией предупреждал вход клиента, которому талер давал доступ к лестнице; в зале нужно было умилостивить второго цербера, чтобы соизволил объявить о прибывшем. Никто из этих мраморных фигур не знал, дома ли была пани и могла ли дать аудиенцию. Разгорячённый Орбека прохаживался по затемнённой зале, дёргая на себе одежду, когда после долгого ожидания, прерываемой стуком в разных сторонах отворяющихся дверей и дверочек, вошла пани Люльер.
Кажется, она сначала через дверь старалась увидеть пришельца, который живо к ней подбежал.
– Пани! – сказал он. – Ради Бога, скажи мне, где Мира? Я должен её видеть.
Люльер холодно с ним поздоровалась, даже очень холодно, знала уже из письма приятельницы, что Орбека обанкротился до нитки.
– Но я… я не знаю.
– Вы должны о том знать! Я её видел! Она здесь! Почему вернулась? Что случилось?
– Избавь меня, пан, от этого неприятного расспроса, – сказала она, – очень прошу, не имею полномочий от бароновой для объяснений от её имени, а потом, почему это вам показалось?
Орбека горько улыбнулся.
– О! Это я был причиной её несчастий, в самом деле? Скажите своей приятельнице, что, хочет или не хочет, должна будет увидеться со мной!
– Я вовсе не думаю служить тебе послом, ищи себе других, – ответила, отворачиваясь, Люльер.
– Пани! – сказал, слабея, Орбека. – Ты женщина, имеешь сердце, знаешь сострадание… выхлопочи мне только минуту разговора, заклинаю тебя, заклинаю тебя… твоей первой… твоей единственной любовью… потому что быть не может, чтобы ты кого-нибудь не любила в жизни… встаю на колени… умоляю… смилуйся!
Люльер усмехнулась и действительно почувствовала немного сострадания.
– Пане Орбека, для чего это вам будет служить? На что обновлять раны? Она вас не любит… она вас никогда не любила! Не окровавливай себе сердце. Это ни к чему не приведёт… нужно забыть.
– Но я её так люблю, так люблю! – воскликнул бедный Валентин.
А после минутного раздумья добавил, как бы вынуждая себя остыть и стать хладнокровным:
– Впрочем, хочет, или не хочет, я использую все возможные средства к тому, а видеть её должен. Лучше для неё и для меня, чтобы это произошло без скандала, огласки и ненужного шума.
Он договаривал эти слова, когда дверь в глубине отворилась и скорее выбежала, чем вошла, с гневом на лице, с возмущением, Мира. Орбека встал на колени и вытянул к ней руки.
Она начала смеяться, сухо, холодно, принуждённым смехом самого фанатичного издевательства.
– Чего вы ещё хотите от меня? – воскликнула она, топая ножкой. – Не достаточно ещё горечи вы влили в мою жизнь, не достаточно пожертвовали мне свою скотскую страсть? Я достаточно натерпелась и хочу быть наконец свободной от этих ваших нищенских обожании. Знайте раз и навсегда, что я никогда вас не любила, на минуту, что я всегда вас обманывала, что выносить не могла… что неприятные, унизительные обстоятельства вынудили меня, несчастную, поддаться вашему невыносимому навязыванию.
– Мира! Мира! Сострадания! – воскликнул Орбека. – Я знаю это всё. Зачем погружаешь нож в моё сердце? Подумай, я ли был причиной твоих несчастий? Ничем ли не заслужил воспоминаний получше?
– Иди, прошу, и на глаза мне больше не показывайся, – прибавила она, – мы не знаем друг друга, не знали никогда. Прощай! Вы мне отвратительны!
– Ради Бога! – крикнул, бросаясь, Орбека. – Два слова только: почему ты вернулась? Что случилось? Ты снова одна? Говоришь, несчастна? В нужде, может? Я… я… я имею… я могу!
Нужно было видеть, какое внезапное впечатление произвели эти последние слова на прибежавшую женщину. Она и Люльер поглядели друг на друга.
Мира заколебалась, побоялась показывать внезапную перемену, а эта новость, что человек, о котором она думала, что обанкротился, ещё что-то имел, когда она гналась за остатками, поколебала её решение. Чувствовала, что может ещё найти выгоду. Подруга пришла ей в помощь.
– Но, моя дорогая, – сказала она, – не будь же так жестока, можете расстаться без гнева et en bans amis d'autrefois.
Мира вытирала уже слёзы, которые должны были представлять переход от одной ситуации к другой – хватало ей средств, чтобы оправдать плач и смягчиться.
– А! Как же мне не огорчаться, – воскликнула она, – по твоей причине, брошенная на милость этого несчастного грека, банкрота, который вовремя умер.
– Радипуло умер! – подхватил Орбека.
– Я банкрот! Банкрот! – Мира после этих слов ещё сильней начала рыдать. – Если бы не сострадание подруги, я не знала бы, где сложить голову.
– Всё-таки, – прервал несмело Орбека, – какой-то итальянец приехал с тобой.
– Кузен моего покойного… который меня сюда привёз… если бы не он…
Орбеке нуждался только в каком-нибудь объяснении. Это родство его не поразило, не удивило, готов был верить всему, лишь бы его не выгнали.
Мира, как бы измученная, упала в кресло, значительно смягчившаяся, слушала Орбеку, отвечала ему; бедный осуждённый не мог уйти, мысли в его голове путались, в сердце кипели чувства; объясняя сам себе своё поведение, готов был в действительности признать себя виновным, преступником… а её – жертвой.
Он чувствовал,