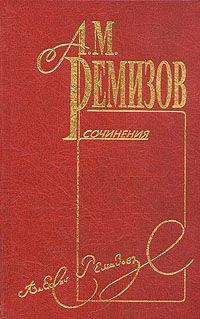Закупив штоф, Ванька торопко поспешил ко двору Филатьева. Не успел свернуть в Козловский переулок, как на него напали четверо мужиков, шагавшие за ним от питейного заведения. Лохматые, с сизыми носами, в драной одежонке.
— Отдай штоф!
Голос пропитой, хриплый.
— И не подумаю.
— Бей его, ребятушки!
Ванька отчаянно сопротивлялся, но где уж ему устоять супротив четверых мужиков. Вернулся к дому купца чуть живехоньким, а Митька Косой тут, как тут.
— Где штоф? — рявкнул холоп.
— Мужики в переулке отобрали да еще отволтузили.
— Сучонок! — вновь рявкнул Митька и двинул увесистым кулачищем Ваньке по лицу. Недовольный холоп побрел на конюшенный двор, а Ванька, утирая рукавом посконной рубахи кровь с лица, пошел к разваленной поленице, но на этом его напасти не завершились, так как вскоре подле него вновь вырос приказчик.
— Это ты так дрова укладываешь? Бездельник!.. А чего харя в крови? Кто?
Ванька потупился.
— Кто, спрашиваю?
— Не скажу.
Приказчик выхватил из-за голенища сапога плетку и ожег ею спину юноты.
Миновало семь лет. Ванька заметно вырос, раздался в плечах, налился силой, но ничего в его жизни не изменилось, «поскольку от господина своего вместо награждения и милостей несносные бои получал».
Озлобился Ванька, и все чаще стал задумываться над своей неудавшейся жизнью. Ну почему, почему ему так не везет? Кажись, лодыря не гонял, любую работу норовил выполнить исправно, но не было дня, чтобы он не попадал в какие-нибудь нелепые истории, кои завершались тумаками.
Взять вчерашний день. Приказчик Федор Столбунец велел принести в каменную лавку мешок турецкого нюхательного табаку, коим (со времн царя Петра) увлекались многие московские дворяне.
Доставил бы из лабаза благополучно, если бы на пути не встретился Митька Косой. Тот взял да и хлестнул по рогожному мешку своей плеткой. Хохотнул, скаля свои острые выпуклые зубы.
— Проворь, Ванька, приказчик заждался.
Хлестнул ради озорства, но с такой силой, что тугой мешок треснул и табак посыпался на землю.
Тут Ванька не удержался: годами накопленная злость на холопа выплеснулась злыми словами:
— Ты чего, гад, делаешь? В харю захотел!
— Чего-чего? — поразился Митька. — Это что за вошь на меня рот раззявила? Да я тебя, сучонок, в кровь исполосую!
— С коня-то и дурак сможет. Сойди на землю, вот тогда и поквитаемся.
Обозленный Митька с коня сошел и тотчас взмахнул на супротивника плеткой, но Ванька успел перехватить кисть его руки, да так ее сдавил, что плетка вывалилась.
— Сучонок, — прохрипел холоп и немедля был повержен наземь.
Изумленный Митька с окровавленным лицом оставался лежать на тропинке, а Ванька переломил через колено рукоять плетки и понес лопнувший мешок к лавке. Спохватился о просыпанном табаке только тогда, когда торговый сиделец с бранью накинулся на него:
— Ополоумел, паршивец! Ты чего мне подсунул? Табак воруешь?!
Ванька уже знал, что турецкий табак имел громадную цену.
— Чего молчишь? Почитай, два фунта спер!
— И понюшки не брал… Не приметил, что мешок худой. По дороге малость высыпался.
— По дороге?.. А ну пойдем, глянем, паршивец. Коль набрехал, приказчик из тебя кишки выдавит.
Сиделец закрыл на пудовый замок лавку и потянул Ваньку за рукав рубахи.
— Пойдем, пойдем, вор.
Вины Ваньки не оказалось, но наказания избежать не удалось. Приказчик стеганул его батогом и назидательно произнес:
— Ты куда смотрел, дурья башка? Нешто порчу в лабазе не заметил?
— Не заметил, ваша милость.
— А чтобы в другой раз моргалы не дрыхли, а бдели — запоминай науку.
Батог загулял по Ванькиной спине. К битью он давно привык, мог и не такое выдержать.
Митька же Косой, бывший неподалеку, с кривой ухмылкой взирал на Ваньку и, пожалуй, впервые без язвы подумал: «А парень, кажись, на кляузы не способен. Сколь бы его не шпынял, знай, помалкивает, лишь злющими глазами сверкает».
Было на что злиться Ваньке Осипову, и не только на Митьку Косого. Злился, казалось, на весь мир: на приказчиков, купцов, фабрикантов-заводчиков, знатных людей Москвы. Все они кровопивцы-паразиты, живут в роскоши и измываются над своими дворовыми.
А откуда богатство им свалилось? На обмане, на обвесе, на выколачивании последних деньжонок из крепостных.
Как-то услышал речь господина полковника, Ивана Ивановича Пашкова, кой был частым гостем Филатьева.
— Поместье у меня, Петр Дмитрич, не столь и велико, но я мужика в крепкой узде держу. На оброк посадил, тем и живу.
— Чай, оброк-то немалый?
— Да уж спуску не даю, но голодом мужики не пухнут, хотя моего приказчика того гляди, дрекольем побьют.
— А коль побьют?
— Пусть попробуют. Заведу на двор и собаками затравлю. У меня не забунтуют. Подлые людишки!..
«Подлые людишки, — с горечью усмехнулся Ванька. — Вот и он никчемный подлый человек, как и все люди, представляющие бедноту. Их же превеликое множество, которые поят и кормят, обувают и одевают горстку богатеев. Паразиты они и упыри, кои только и знают нечестным путем добывать свое богатство.
Взять Петра Филатьева. Да у него столько денег, что можно прокормить всю московскую голь перекатную. А он кинет три полушки нищим на паперти и считает себя благодетелем. Сквалыга! Все его дворовые люди ходят в обносках, в коих по улице пройтись стыдно.
А как свою дворню кормит? Лишь бы ноги волочились. Уж такой прижимистый, что даже на Светлое Воскресение[12] выдает всего лишь по одному крашеному яичку, и все потому, чтобы стародавний обычай христосования не нарушить, а то бы и вовсе пришлось у голубей яйца воровать.
Худая жизнь, горемычная.
Одна отрада — уроки бывшего дворянского сына Ипатыча. За семь лет Ванька столько познал «высокого слога», что Ипатыч диву давался.
— Да ты теперь, Иван, можешь легко и свободно с любым высокопоставленным человеком разговаривать. Светлая же у тебя голова. Жаль, что живешь в грубом быту, среди неотесанных людей.
— Жаль, Ипатыч.
Неужели ему, Ваньке, так и дальше бытовать на постылом дворе? Каждый день, проведенный у купца Филатьева, надоел ему до тошноты. Надо бежать, бежать отсюда, пока тебя совсем не замордовали. Хватит крепостной неволи.
Живая, порывистая душа двадцатилетнего Ваньки рвалась на свободу.
Дня через два приказчик Столбунец выдал Ваньке праздничную сряду и поручил ему важное задание.
— Сунь под рубаху пять вершков аглицкого сукна и отнеси купцу Кузьме Нилычу Давыдову в Зарядье[13]. Спросишь, не возьмет ли сто аршин. Дом купца в Мокринском переулке.
По воскресным дням, когда всякая работа со времен царя Алексея Михайловича[14] была запрещена, дворовые люди Петра Филатьева разбредались по Москве, а посему Ванька Осипов довольно хорошо уже знал Белокаменную.
Иногда он доходил до Земляного города, а, возвращаясь короткими переулками, пересекал шумные Никольскую, Ильинскую и Варварскую улицы, и оказывался в Зарядье, древнейшем поселении Москвы. Шумная торговая жизнь кипела здесь и особенно на Большой, или Великой улице. На ней же, посреди, стояла церковь покровителя торговли и мореплавания — святителя Николая, прозванная из-за постоянной здесь сырости от наводнений и дождей «Николой Мокрым». Местность эта именовалась даже «Болотом».
Застроено было Зарядье деревянными, тесными дворами, между коими пролегали узенькие, кривые переулочки. Частые пожары истребляли их дворы «без останку». Большая улица оканчивалась «Вострым концом», где была поставлена каменная церковь Зачатия Анны в Углу — одна из древнейших в Москве.
Построенная стена Китай-города отделяла Зарядье от реки Москвы, выход к которой мог осуществляться только через Водяные ворота, против Москворецкого моста, и Козмодемьянские — в заложенной квадратной башне внизу Китайского проезда.
В ХYII и ХYII веках Зарядье было заселено большей частью мелким приказным людом, торговцами и ремесленниками; приказные имели связь с Кремлем, его приказами и различными, хозяйственными царскими службами, а торговцы и ремесленники — с Гостиным двором и торговыми рядами, лежавшими к северу и западу от Зарядья.
В соответствии с этим главные переулки Зарядья потянулись от Мокринского переулка в гору, к Варварке. Их было три: Зарядьевский, Псковский и Кривой..
Кроме мелких жилых дворов, в Зарядье стояло несколько казенных учреждений и один монастырь. На месте здания на углу Мокринского переулка и Москворецкой улицы находился «Мытный двор» — городская таможня, в коей взимался таможенный сбор — «мыт» — со всякой пригоняемой в Москву «животины»: коров, овец, свиней, и даже кур и гусей. Тут же на «Животинной площадке» скот и продавался. Кроме того, здесь продавалось также мясо, куры, колеса, сани, зола, лыко и прочее.