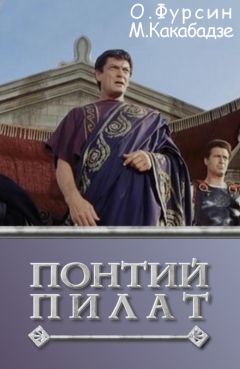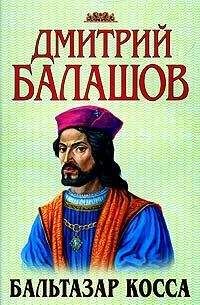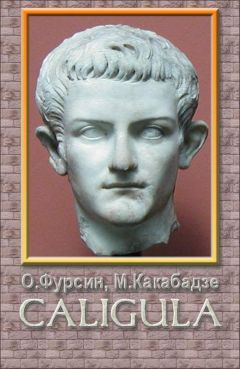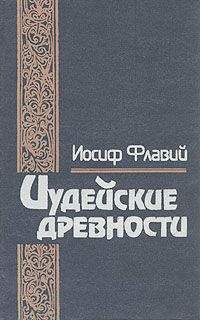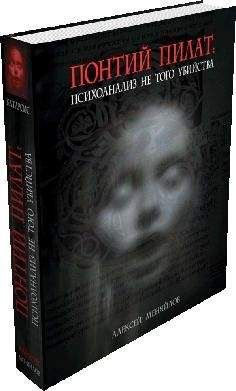Глава 3. Дружеские беседы
Хитросплетения судьбы — загадка, волнующая каждого отдельного человека. И загадка для всего человечества в целом. Совпадения или несовпадения, случайные встречи, обретения или потери. То пронесет мимо смерти, то столкнет с бедой и гибелью на самом пороге ожидаемого счастья. И нет ответа на тысячи тысяч «почему?», задаваемых на всех перекрестках земли.
Где-то, когда-то, на краю изученной земли один человек, спасенный от смерти другим, сделал подарок спасителю. Кусок редкого камня со странным сочетанием цветов. И началось — череда смертей, потрясших до основания полмира. Потом череда случайностей, оберегавших членов отдельной семьи. И теперь, через три века, это начиналось снова. Ожидались смерти, и гибельные совпадения, и чудесные избавления. Почему? Есть множество и других вопросов. В зависимости от склада ума. Кто-то спросит — почему именно через три века? Или, допустим, что за сила была дана тому камню, каков её источник? Связано ли это с цветами камня, или с веществом его, или только со странной силой, что был наделен индийский Учитель? А чем же он наделен, что это? И где этому можно научиться, или где это можно взять… Вопросов может быть множество, но только на большую часть из них нет ответов. Можно попытаться рассказать — как это было. Как начинался заговор, изменивший лицо мира, подаривший миру христианство…
— Впрочем, Понтий, не стоит думать, что тебя ждут в Иудее с радостью и удовольствием, — внёс серьезную ноту в общий разговор Луций Сенека, всё ещё улыбаясь предшествующей шутке, но словно вдруг трезвея. Этот молодой мужчина, лет тридцати, был известен своими изысканиями в философии и успехами в политике. Во многом благодаря своему отцу, известному ритору Сенеке Старшему, он увлекся ими ещё в юности.
— Какое мне до этого дело? — возразил ему прокуратор. Я собираюсь управлять ими, а не они мной. Что мне до их чувств? Пусть покоряются Риму, во и всё их удовольствие.
— Ты не знаешь их обычаев, префект, и хочешь управлять лишь своим веским словом или бряцанием оружия? Ты знаешь, что эти побежденные, а на их веку победителей было немало, навязывают свой закон победителям, действуя хитростью, держась друг за друга? Это для нас из Греции в мир пришли красота, поэзия, искусство, из Рима пришла законность с правом человека на беспристрастный открытый суд… Иудеи считают, что всё это — отвратительные по содержанию проявления язычества, грубой силы, неразумной и глупой. Для них существует лишь их собственная история, лишь их единственный Бог, который избрал их из всего человечества, и который интересуется лишь ими…
— Я заинтересую его Римом, всерьез и надолго, уверяю вас, всех присутствующих!
Никто, собственно, и не сомневался. Он был подлинным солдатом Рима, Понтий Пилат, нынешний прокуратор Иудеи. Лицо его выражало решимость, руки крепко сжаты, глаза грозно блестели и не обещали иудеям ничего хорошего.
Два человека напряглись внутренне, понимая, что Понтий прав, но должен быть предостережён и несколько осажен — для своей, а главное — для общей пользы. Один был тот, перед кем преклонялся Понтий, тот, кого Сеян называл «молодым другом». Он с огорчением вздохнул, ещё раз пожалев об отсутствии в Понтии Пилате даже намека на дипломатию, когда задевались истинные Понтия интересы — а это, вне всякого сомнения, были интересы боготворимого прокуратором Рима. С другой стороны, неудержимая энергия Пилата и его опыт не должны пропасть даром, и будут бесценны в Иудее. И, может быть, послужат лучшим противовесом хитростям и недомолвкам, и всей этой иудейской премудрости, в которой он явно не силён… Да, следует направлять Понтия, но не надо надевать на него узду, во всяком случае, сейчас, перед самым началом — он должен справиться. И Он промолчал.
Луций же Анней Сенека бросился в бой. Для него, Сенеки, в отличие от Понтия Пилата, отечеством был не только Рим. Он считал себя Человеком, и значит, — гражданином всего существующего мира. Великое государство, не ограничиваемое определённым пространством, поистине «res publica»[19] — вот что волновало его. Сенека возвысился над предрассудками относительно не римлян, и хотел, чтобы этот шаг сделали и другие…
— Ты не прав, воитель, — обратился Луций к Понтию. Конечно, защищая государственные интересы, не сохранишь руки чистыми. Но единовластие должно быть ограниченным и упорядоченным, а правитель — разумен и милосерден, и обязан заботиться о подданных… Пусть это всего лишь иудеи, но и они — люди! И подданные Рима!
Завязался всеобщий спор, и в нём приняли участие не только уже перечисленные лица. Следует упомянуть, что на встрече в доме Понтия Пилата были ещё седовласый Марк Эмилий Лепид[20], и отпрыск знаменитой фамилии Крассов — Марк Лициний [21].
Все эти вопросы были важны для них, тема разговоров — животрепещуща. Кто-то из них лишь обозначал своё присутствие в римской истории, кто-то уже стал страницей её. Это была их жизнь, их страна, их власть. Могли ли они быть равнодушными, когда разговор касался Рима? Впрочем, не этот спор, а завершение разговора Луция Элия Сеяна со своим прежним оппонентом, представляет истинный интерес. Дав возможность друзьям попрактиковаться в риторском искусстве, «молодой друг» Луция вновь обернулся к нему, и продолжил прерванный ранее разговор.
— Луций, ты сегодня слегка приоткрыл мне завесу над своими тайнами, рассказав о пристрастии к философии и о трудностях выходцев с низов. Я прошу тебя о большей откровенности. Не в первый раз пытаюсь понять нечто о тебе, но до сих пор не получил ответа. Ты молчишь, а мне надо представлять себе, чего хотят от меня мои соратники в будущем. Быть может, большего, чем я захочу или смогу им дать?
Молодой человек, с которым беседовал Элий Сеян, и чье имя ещё ни разу не было произнесено вслух, задумался на несколько мгновений. Элий ждал, не прерывая его размышлений. В глазах любимца Тиберия, обращенных к собеседнику, светилось любопытство, а ещё — действительное уважение к тому, кто был представителем римской знати, но таким необычным представителем.
— Мне тоже приходилось философствовать, Луций. Ты же знаешь, история — моя страсть, а эти две дисциплины — родные сестры. И немало приходилось мне задумываться о власти и её странностях. Вот ты — человек, который всего в жизни добился сам… У тебя есть всё — и власть, и богатство, а кроме того, Боги даровали тебе здоровье, которого нет у меня, несмотря на знатность, и даже красоту. Тебя любят женщины, и не просто любят, а многие бесстыдно бегают за тобой… На мой взгляд, тебе уже незачем чего бы то ни было хотеть. Что же привело тебя к нам, тем, кто так многого ещё хочет? И чего хотел ты, став членом нашего Общества?
Пришел черед задуматься Сеяну. Есть вопросы, на которые не то чтобы трудно ответить. Всегда можно что-то соврать и вывернуться, или сделать вид, что не услышал, в конце концов. А вот ответить по-настоящему, сказать правду — означает вывернуть наизнанку собственную душу. Это нелегко само по себе, да и вызывает раздражение по отношению к тому, кто задал вопрос — с какой стати он пытается выведать у тебя нечто сокровенное, только тебе принадлежащее? Велико же было уважение Сеяна к своему собеседнику, когда на столь откровенный вопрос он постарался ответить честно и всеобъемлюще, как только сумел. Это чувствовалось по тону Сеяна, по его дрогнувшему голосу.
— Мой умный друг, я сам неоднократно спрашивал себя об этом. Ты вспоминал сегодня о брате. Помнишь, как корчилась твоя душа от боли, когда пришло известие о его смерти? Помнишь, как ты не мог сдержаться от слёз, как громко кричал, посылая проклятия предполагаемому убийце, как тебя не могли удержать в твоей комнате, и ты рвался на улицу, чтобы бежать, и кричать, призывая к отмщению… Нет, я не потому об этом говорю, что хочу разогреть твою ненависть или растравить раны, прости меня. Я хорошо помню тот день, и нашу встречу, и твое желание продолжить дело, начатое братом; тогда я услышал в ответ на мое предложение решительное «да!».
Рука Сеяна легла на лоб, снимая напряжение, слегка дрожащие пальцы прошлись по надбровью, прижали веки и опустились на подбородок. Волнуясь, он продолжил:
— Но ты вспомни своё горе. Вот такое же по силе чувство я испытываю, когда понимаю, как непрочна моя власть. Я — временщик, и знаю об этом. А ведь я не один на свете. У меня есть дети, моя плоть, моя надежда на бессмертие. Если я паду, что ждёт их на этом свете… прозябание в безвестности? А может, смерть от рук моих врагов? Я же хочу даровать им истинную власть, ту, что есть у тебя, даже если её пока нет, власть, которая от Бога, и уже не отнимется у них. Однажды я попытался войти в ваш круг… Хотя бы дочь, хотя бы она могла обрести иной кров, чем мой? Где все так зыбко, неустойчиво! Но твой Друз, твой сын погиб — нелепо, глупо, едва обручившись с ней… Подавился грушей, это немыслимо себе представить! Словно оно, еще ничего не значившее само по себе обручение, стало проклятием его юной жизни! Разве это не знак?