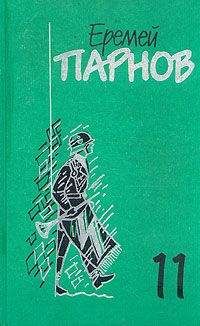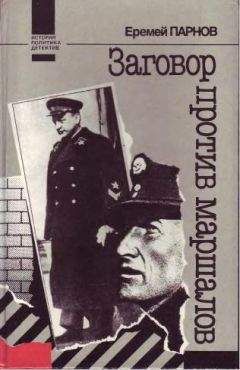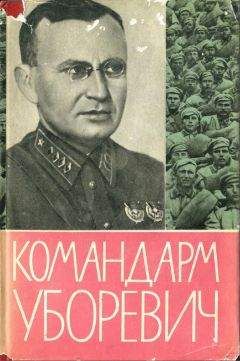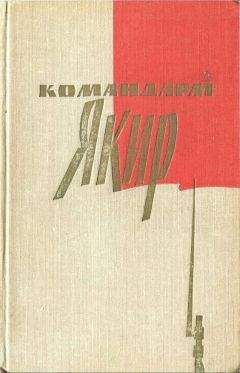Она явилась прежде, чем стала понятна речь. Руки потянулись к медному изогнутому рожку до первых игрушек. Сначала была скрипка, а потом уже сабелька и деревянный конь.
Память — это ты сам, и все, что было и не было до тебя, и что будет или не будет после. Она безропотно отворит зачарованные чертоги, где вечно звучит грустная песня сверчка и свеча дышит горячим воском.
Так явственно, с таким щемящим очарованием выплывают мельчайшие подробности и, будто стеклышки в калейдоскопе, встают на свои места.
В тот вечер, вернее, в один из тех вечеров, нет — в те вечера, слитые музыкой воедино, отец и бабушка в четыре руки играли Шопена. За другим роялем сидел Шурик, а маленький Игорь листал для него клавир. В черном зеркале застекленного портрета, что висел над полкой нотных альбомов, дрожали язычки свечей. Он казался окошком в неведомый мир. Вдохновенный лик Антона Рубинштейна — бабка уверяла, что он играл на ее рояле,— скрадывала сумрачная глубина.
Внезапным порывом распахнуло форточку, и морозный ветер, задув канделябр, пронзил насквозь. И ничто не исчезло: ни ледяное дуновение, ни грохот крышки, ни отзвук дрогнувших струн. Их протяжно угасающий звук постоянно тревожит память. Прокрадываясь в неспокойные сны, томит провидческим ожиданием беды.
Игорек, обещавший стать выдающимся пианистом, не дожил до пятнадцати лет, умерла Надя, скоропостижно скончался отец.
Из всей семьи один Шура избрал карьеру профессионального музыканта. Поступив в консерваторию по классу профессора Гольденвейзера, неожиданно сменил фортепьяно на виолончель.
Как-то на концерте камерной музыки — играли «Прощальную симфонию» Гайдна — он признался, что дважды видел один и тот же сон: огни в черном лаке рояля, задутые ветром.
«В пятнадцатом году, когда от тебя долго не было писем,— брат запомнил дни.— А наутро Коля принес «Русское слово», и мы прочли, что подпоручик Тухачевский и поручик Веселаго взорвали мост в тылу у неприятеля. Никогда не забуду жуткие слова: «Судьба героев неизвестна». А герой сидел в немецком плену...»
На концерте они познакомились с Евгением Францевичем Витачеком, знаменитым скрипичным мастером, знатоком и ценителем старинных инструментов. Он и приобщил Тухачевского к загадке кремонских скрипок. Литература оказалась обширная, в пору шею свернуть, но знание языков помогло вычленить основное. Как отец, как братья, Тухачевский беззаветно верил в силу науки. Почему бы и не разгрызть орешек, на котором обломало зубы не одно поколение мудрецов? Из кадетского корпуса и юнкерского училища он вынес изрядные познания в химии, физике и математике, еще в детстве постиг столярное дело, свободно управлялся с токарным станком. Подобно царю-плотнику, начинать решил с самых азов. Терпеливо и тщательно подбирал подходящее дерево, резал, сушил, затем выпиливал заготовки, грунтовал их и склеивал, покрывал лаком. Сработанные им альты и виолончели медленно, но верно приближались к лучшим образцам.
Евгений Францевич ревниво следил за успехами ученика, и прошел не один год, прежде чем педантичный чех признал в нем мастера, почти равного себе.
«Изрядная вещь,— изрек он однажды, придирчиво опробовав новенькую виолончель.— Но до кремонской ей так же далеко, как и прочим».
Шура без лишних слов забрал инструмент себе...
Невеселые мысли лезут, однако, в голову.
Ночное, когтящее мозг сознание должно выливаться в сны. Не дело разгуливать по квартире в потемках, путаясь в воспоминаниях. Где быль, где небыль — не разберешь. Откуда эти задутые ветром огни? Свечи были дороги, зажигали их редко, вечера коротали при керосиновой лампе.
Спать, и никаких гвоздей, спать.
Заснуть удалось перед самым рассветом. Разбудили глухие удары лома и мерзкий скрежет обитой железом лопаты. Ни свет ни заря дворник надумал скалывать лед.
Едва успел закипеть чайник, как позвонил Коля Жиляев: не терпелось поделиться открытием.
— Приезжай,— сказал Тухачевский.— Но только скоренько. Без четверти двенадцать я должен отбыть.
Немного некстати, но разве откажешь старым друзьям? Коля отличался особой душевной тонкостью, как все наивные люди, был глубоко раним. Одаренный музыкант и бескорыстный фантазер, он влюблялся не то что с первого взгляда, но даже понаслышке и картинно страдал на глазах театральной Москвы. У него ходили в приятелях тотошники и бильярдисты, официанты в «Астории» или, скажем, «Савое» почитали за честь красиво обслужить Николая Сергеевича. Жил он неустроенно, трудно, но артистическая безалаберность не замутила его восторженного преклонения перед идеалами революции.
Портрет молодого военачальника в краснозвездном шлеме висел у него в комнате на самом видном месте. Для Коли это была и память о восемнадцатом годе, и верность юношеским порывам. Он никогда не напоминал о своей причастности к легендарной судьбе. Именно в восемнадцатом Тухачевский вступил в партию. С будущим поручителем — революционером Кулябко — его познакомил не кто иной, как он, Николай Сергеевич Жиляев.
Тайная гордость выливалась в благоговейное обожание «демона революции». Неисправимый романтик по- своему понимал давнее, почти позабытое нынче сталинское высказывание.
Пока Михаил Николаевич находился в зарубежной поездке, Жиляев увлеченно копался в книгах. В «Истории скрипок» Мозера и в «Кремоне» у Нидерхейтмана ему попалось на глаза упоминание о сделке дома Гварнери с одним венецианским негоциантом, поставлявшим альпийскую сосну.
Гипотеза ослепила, как театральный софит. Для пущей уверенности Николай Сергеевич разыскал крупного специалиста по лесосплаву. Через знакомого замнаркома добился приема и заставил себя выслушать. Специалист долго не мог понять, что от него требуется и какое вообще он имеет касательство к производству смычковых инструментов. Бурный темперамент Жиляева определенно вызывал в нем скрытое противодействие. Одна только мысль, что на лесоповале, где полно заключенных, будут ставиться какие-то опыты, могла лишить душевного равновесия. Когда же в конце концов выяснилось, что не требуется ни ответственных решений по отрасли, ни официальных заключений, ответработник позволил себе немного отмякнуть. Как человек просвещенный и не чуждый искусств, он с полным одобрением отнесся к новаторской идее по части вымачивания древесины в соленой воде. И подтвердил, что она, древесина, действительно способна обрести совершенно иные качества. Какие именно? Товарищу музыканту, конечно, виднее, он же лично не считает себя компетентным в вопросах акустики. Но сама мысль ему очень даже понравилась. Оперативная обработка сплавного леса — самое узкое место. Топляк и все такое... Из-за этого много претензий. О том же, что свойства материала могут улучшиться — мореный дуб, например,— никто и слушать не желает. Короче говоря, ценная инициатива. Стоит работать в таком направлении.
Жиляев ушел окрыленным. В магазине на Кузнецком мосту он приобрел контурную карту Апеннинского полуострова, по которой школьники упражняются в географии, и нанес на нее предполагаемый маршрут от итальянских Альп до Кремоны.
Николай Сергеевич церемонно поцеловал руку Нине Евгеньевне, скинул галоши, повесил пальто и, предвкушая торжество, направился прямо в кабинет.
— Вот! — он благоговейно опустил на стол свернутую в рулон карту.— Можешь забыть о грунтовке и лаках, Миша. Это был тупиковый путь.
— Возможно,— Тухачевский понял суть из телефонного разговора и не торопился с возражениями. Пусть Николай сперва изложит подробности.
— На этой схеме ты найдешь все, что нужно,— Жиляев развернул и разгладил свой свиток.— Тут были леса, где произрастали альпийские сосны,— он обвел мизинцем заштрихованный чернильным карандашом овал.— Может, они и теперь там растут, но это неважно... Отсюда бревна сплавлялись по горным речкам в низину. Видишь стрелочки?
— Почему ты уверен, что именно сплавлялись?
— А как иначе можно вывезти лес? По железной дороге, что ли?
— По льду, например, зимой.
— Ты это читал или нарочно так говоришь, чтобы сбить?
— Извини, Коля. Просто реплика по ходу. Пожалуйста, продолжай.
Жиляев умел рассказывать, фантазируя на лету. Взволнованно, ярко, с увлекательными подробностями. В университете города Падуя преподавал Галилей, морская вода излечивает дерево от грибка — не отличишь правду от вымысла. Скользя по извилистым контурам рек, он мотал головой, показывая, как вертятся в пенном потоке смолистые стволы и летят в вихре брызг в штормящее море.