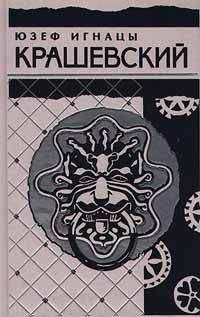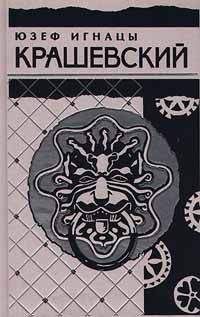местный язык, так что мог на нём разговаривать. Мшщуй же имел сильное решение не понимать немцев и вынудить, чтобы разговаривали с ним на его языке…
Видно, для приёма посла, Перегрин приоделся достаточно богато и красиво, на шее имел цепочку, меч у пояса, а шлем за ним нёс оруженосец. Почти такой же сильный и рослый, как Валигура, он не уступал ему красивой фигурой и благородным её выражением. Из тех немцев, что пребывали на дворе Генриха, более сносного было поистине трудно найти.
Мшщуй, хоть не знал его с лица, слышал о нём много, потому что это был неотступный слуга или, скорее, приятель князя Генриха. Невзирая на рыцарскую фигуру Перегрина, на нём отразился характер силезского двора. Маленький крестик выглядывал из-под его цепочки, одежда была тёмного цвета, каким-то кроем напоминающим монашескую.
Вчерашние урядники, должно быть, рассказали ему, что Мшщуй немецкой речи понимать не хотел; поэтому Перегрин к нему приблизился, приветствуя его от имени князя ломаным, но польским языком.
Мшщуй что-то коротко отвечал, и хоть казалось, что Перегрин хочет сразу завязать приятельские отношения, дал понять, что хочет остаться, не фамильярничая, вдалеке.
– Когда могу получить аудиенцию у князя? – спросил Валигура.
– Будьте чуть терпеливей, – сказал Перегрин, – сейчас князь на святой мессе, после которой должен будет совершить ежедневные псалмы и молитвы; после чего только примет вас охотно. Вы могли бы тем временем, – прибавил он, – удобней отдохнуть в нашем замке, где нашли бы больше людей и не сидели, как здесь, в одиночестве.
Мшщуй согласился на это, думая, что теперь сможет лучше рассмотреть замок. Вывели коня, вышли те люди, которые должны были сопровождать посла, Перегрин со своими присоединился к ним и весь кортеж потянулся в замок.
Было в нём достаточно людно, но в то же время тихо…
Во дворах стояли кони и кареты тех, которые прибывали к князю по разным делам. Когда его ввели в большую комнату, Мшщуй нашёл её уже наполовину занятой ожидающими.
Среди них его поразило множество облачений разных духовных лиц и монахов, белые, серые, чёрные, бритые головы, длинные платья клехов, которые там преобладали. Они стояли впереди, а за ними местное рыцарство, более богатое и более бедное, и по одежде и лицам были легко узнаваемые немецкие поселенцы и урядники.
В зале царила монастырская тишина, потому что и она имела в себе что-то монастырское. На одной из стен висел огромный крест с изображением Христа… у двери был большой сосуд с освящённой водой.
Над всеми входами в неё были буквы, нарисованные белым мелом, разделённые крестиками. Откуда-то доходил сюда запах костёльного кадила и увеличивал иллюзию.
Мшщуй, рассматривая собравшихся, заметил лицо, некогда, раньше, с молодых лет ему знакомое. Таким оно по крайней мере ему показалаось, хотя был не уверен. Ибо человек, которого знал светским, весёлым и охочим товарищем, теперь был постаревшим и серьёзным и имел на себе облачение цистерцианского ордена.
Когда Мшщуй ещё к нему присматривался, удивлённый тем сходством, монах также направил глаза к нему, улыбнулся и начал медленно приближаться. Это был он, тот, которого раньше звали Миколаем из Генрихова, могущественный пан, писарь и канцлер князя Генриха, который теперь, отдав собственную деревню на основанный им монастырь, был избран в нём аббатом. По правде говоря, он и раньше носил одежду клирика, но не был рукоположен, и не показывал призвания. Мшщуй, который не слышал, что с ним стало, удивился, когда увидел его любезно приветствующим и с видимой радостью.
– О, Боже мой! – воскликнул он. – Что же с вами стало?
– То, что видите, – отпарировал цистерцианец спокойно, – лучшую участь выбрал себе – и я счастлив… В порт приплыл!
Валигура глядел ещё, удивлённый, не в состоянии вымолвить ни слова:
– Тебя это удивляет, милый брат, – отозвался Миколай, – мне самому иногда дивно, что Бог своею милостью соблаговолил призвать меня и из Савла сделал Павлом. Это результат святого примера нашего пана и пани; прежде всего её, этой святой женщины, которая в рвении во славу Божию готова пожертвовать мужем, детьми и собой, и от света отказалась.
Мшщуй склонил голову… Глубокое убеждение и пыл, с каким говорил отец Миколай, подействовали на него.
Они ещё разговаривали, когда в зале послышался шорох, все у дверей расступились, начали дивно шептаться, великое волнение чувствовалось в этой толпе, все духовные лица выступили вперёд, и у входа показалась новая фигура.
Был это муж средних лет, но страшно исхудавший, загорелый, в запущенной одежде, которая делала его похожим на нищего. Чёрные глаза, горящие каким-то чрезвычайным пылом, имели такую силу, что их взгляда никто выдержать не мог.
Голова, почти вся выбритая, была окружена только узкой полоской волос, как терновым венцом. Его ноги были босы и покрыты пылью, к ним были прицеплены деревянные сандалии, на нём было длинное одеяние из тяжёлого коричневого сукна, подвязанного простой верёвкой.
Мшщуй, который в жизни ещё не видел ни одного из сыновей святого Франциска, спросил цистерцианца, кто это был.
– А! Это один из учеников того благочестивого мужа из Ассиза, что основал новый нищенствующий орден, который смирением и бедностью, благочестием и отказом нас всех перегонит. Княгиня хочет им монастырь в Кросне заложить, и пригласила его к себе…
Вошедший монах, увидев, что его хотят принять с некоторым почтением, как бы пристыженный, отступил от двери на последнее место. Напрасно Перегрин пытался его вывести из уголка, тот упёрся и остался бедненько у стены. Глаза всех с неслыханным любопытством уставились на этого человека, который тут же опустил глаза, склонил голову и сделался маленьким, чтобы отвести это неприятное внимание.
– Чем же мы есть при них? – отозвался с набожной экзальтацией отец Миколай. – Эти братья не имеют ничего собственного, не берут денег, живут подаянием, а тело своё так наказываютм, что живыми на небеса могут быть взяты.
Счастлив век, который вместе видел рождение двух таких мужей, как Доминик и Франциск…
Валигура слушал, смотрел и недоумевал, потому что на всём дворе, вокруг ни о чём другого не говорили, только о святости и счастье тех, что могли посвятить себя Богу. Рыцарский характер прежнего княжеского окружения отступил и исчез, поглощённый религиозным пылом.
Что было ещё рыцарского, объяснялось только тем, что нужно было бороться с язычниками и обращать их. В Испании воевали с маврами, думали о возвращении потерянного Иерусалима и Палестины, во Франции истребляли альбигойцев, в Мазовии крестоносцы уже готовились идти на пруссов.
Светские дела были для всех вещью второстепеной, да и те без помощи и опеки духовенства никогда успешно из-за