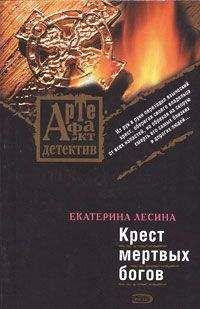это случалось в те минуты, когда он достойно проявлял свою власть. Вот и нынче он показал, чего стоит его власть.
Револя затолкал руку в широченный карман куртки, нащупал пистолет и… улыбнулся. Но потом в сухом, мертвенно тусклом лице появилось нечто похожее на недоумение, впрочем, совсем не сходное с тем, что прочитывалось в нем с первого раза. Это недоумение, как ни силился Револя, не сходило с лица, а точно бы раздробившись, растекалось по нему, худому, с обтянутой на скулах кожей. Само по себе недоумение, когда бы не жгло сердце неспешной и вялой занудливостью, в представлении Револи гроша ломаного не стоило, и он запамятовал бы о нем, если бы от него не протянулось нечто отчетливо и ясное выраженное: «А ты что, парней испугался? Уж больно скоро распрощался с ними. Боялся, что они очухаются?..» Недоумение сказало Револе, что дело, которое вызывало в нем тайное удовлетворение, не было хорошо исполнено и мало-помалу померещилось ничего не значащим. Револя, распалив себя и сделавшись черт знает чем, может, тугим, пулей не пробьешь, комком злости, пошел обратно. Он часто спотыкался. Земля под ним, кочковатая, неровная, вдруг упадала вниз, а малость погодя резко вздыбливалась. Но он не смотрел под ноги, пренебрегая, тянулся мысленным взором к лесной поляне, посреди которой лежал, раскидавшись, убитый им человек. Но думал не о нем, а о братьях Кряжевых. Он ненавидел их: они вывели его из состояния уважительного отношения к себе и заставили совершить противные его естеству действия, а этого нельзя прощать никому. Револя думал о братьях и понимал, что и увязался-то за ними во время погони не из охотничьего азарта, иначе присоединился бы к тем, кто вел в поводу слюнявых овчарок, там быстрее можно было удовлетворить свою страсть. Тут обозначилось другое… Револя не верил братьям, удивлялся, что они приняли участие в погоне, думал, замышляют что-то противное делу, которому он служил, и, подчиняясь тому, что бродило в мыслях, он пристегнулся к Кряжевым и пытался не отстать от них… В этом был весь Револя, как и в том, что застеснялся собственного страха, а страх, чего таить, посетил его на малое время. От него осталось неприятное чувство, поведавшее Револе: вот, дескать, и я могу поменяться и оборотиться черт знает во что… Револе надо было осилить все то, что поломало в нем. Он не смог бы жить дальше, не осилив этого. И он сумел прогнать неладное и, придя на то место на лесной поляне, где бросил братьев, и, оглядывая никлое и желтое древостояние, начал искать труп беглого, не понимая, отчего вокруг лишь гладкая и ровная, ничем не нарушаемая земная поверхность. Но вот, напрягшись, приметил примятую траву-мураву, а потом увидел на тонких стеблях красные загустевшие капли крови. Почесал в затылке, прикидывая, куда подевался зэк. И не сразу до него дошло, что Кряжевы унесли убитого… И тут его точно бы молнией ударило, почти ликующе сказал про себя, что он редко ошибается, вот и в братьях не ошибся, чуял же: нехорошо тут что-то!..
— Ну, погодите! Уж я выведу вас на чистую воду!
Егор и Кузя похоронили беглеца, отыскав на кладбище еще с лета отрытую яму, а потом разошлись, не посмотрев друг на друга. Егор поспешил к Ленче, она была дома, и обрадовалась ему. Однако ж скоро радость ее подостыла, она почувствовала в Егоре сердечную немоготу, сказала тихо:
— Что с тобой?..
Парень услышал ее голос и, кажется, лишь теперь очнулся. Подойдя к ней, обнял ее и заплакал. Она ощутила его незащищенность и тоже заплакала, хотя и не солоновато горькими слезами.
Шумел Байкал, разгуливал, ломал ледяную корку, протянувшуюся от снежного, ярко блещущего белизной некрутого берега в рыжих каменистых проплешинах к дальнему урезу темной воды, которая вроде бы не поменялась и теперь. Но нет, вода сделалась как бы тяжелее, угрюмоватей, уже не посверкивала вспененными бурунами и про большом ветре лениво и с откровенной неохотой пошевеливалась, было видно, что она не прежняя, хотя и сама еще не догадывается об этом, а догадавшись, станет другой. И тогда Байкал поменяется и уж не будет шуметь и разгуливать, посуровеет и обрушится на белую землю. Но пока Байкал играючи ломал ледяную корку, что нарастала за ночь и к утру упруго посверкивала, источая намерение вытерпеть все невзгоды и не потрескаться даже. Но это ее намерение продерживалось недолго, вдруг Байкал словно бы ни с того ни с сего начинал раскатываться, расталкиваться… И ледяная корка все уменьшалась, пока не превращалась в тонкую узкую полоску. И тут Байкал спохватывался и прекращал раскатывание и разбрызгивание, он точно бы жалел ледяную корку и не стремился к ее полному уничтожению. А может, не так, как-то иначе, к примеру, Байкал не прочь был бы скрыться под ледяным настом, чтоб ни о чем не знать и ничего не видеть до другого лета, да что-то удерживало… скорее, привычка, обретенная за теплое время, дышать полной грудью и воображать себя вольным, никому не подчиненным, даже человеческим страстям, а они чаще несправедливы по отношению к сущему, признавая лишь себя надобными в земном мире. Что, если и впрямь так, и это только привычка? Нередко в характере Байкала, ближе к зиме своенравного и предельно откровенного, когда и малая утайка вдруг выплеснется светлоструйной волной, и она коснется шершавого каменистого берега и тут же, словно бы застеснявшись своего особенного отношения к земной тверди, скатится вниз, скажется и такое, и только слепой не увидит, а уж рожденному в Подлеморье про чудное, исхлестываемое от священного моря, и намекать не нужно, тотчас почует непокой Байкала, его утесненность и посреди немалого пространства, отведенного ему Спасителем, и вздохнет грустно, как бы в подтверждение происходящему, ни к кому не обращаясь в отдельности, хотя подле него толпятся люди, а ко всем сразу, но пуще чего к невидимому, сердцем признаваемому Господу:
— Скучает батюшка…
То скажет рожденный в Подлеморье, а вот голь перекатная, Краснопеева не поняла душевной утесненности Байкала, хотя и ощутила ее инстинктом, но, ощутив, одно и заладила:
— Задурел…
И когда запамятовала об этом, увидела, глазастая, на белом берегу близ одинокого слабого деревца неподвижную под голыми ветвями старую лошадь. В ее неподвижности прозревалось странное свойство, она точно бы говорила не про жизнь, к чему старая лошадь еще имела отношение, но про что-то потустороннее, запредельное, отчего голь перекатная долго пребывала в недоумении. Все же время спустя она подбежала