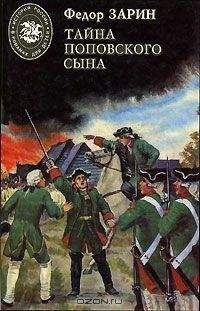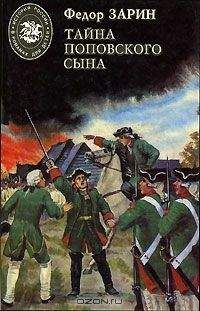— Отчего ж ты не прибьешь меня, поповский сын! Баба, баба, баба!..
Какое чувство влекло ее к этому мечтательному юноше, она и сама не знала. Была ли это привычка, желание общения с душой, полной фантазии и мечты, или зарождалась весенняя любовь, кто знает?
Вот и теперь она стояла и нетерпеливо смотрела на дорогу, и сердилась, и сама не знала, убежит ли она, увидя его, или же бросится к нему навстречу.
Ожидание ее не было напрасно. Вдали показалась знакомая фигура Сени. Первым движением Насти было броситься в сад и убежать, но ее удержало что-то небывалое, незнакомое в этой так хорошо доныне знакомой его фигуре. Всегда робкий, тихий, с опущенной головой и неуверенной поступью, Сеня был неузнаваем. Он шел твердо и уверенно, голова его была гордо закинута, делая энергичные жесты свободной правой рукой. В левой он нес какой-то ящик.
Настя не выдержала и с возгласом:
— Сеня, Сеня! — бросилась ему навстречу.
Семен тоже заметил стройную фигуру девушки в белом кисейном сарафане и побежал к ней.
Они остановились друг против друга, оба запыхавшиеся, Настя несколько смущенная, а он сияющий и ликующий.
Такого выражения Настя никогда не видела на его лице. Глаза его горели, в них не было и признака обычной мечтательной робости. Что-то смелое, вдохновенное видела Настя в этом лице.
— Настя, — задыхаясь, произнес Семен, — Настя! Я говорил, — сказка станет былью… Все мое, и воздух, и небо!..
— Что, что у тебя? — взволнованно спрашивала Настя.
— Идем, идем, я покажу тебе, — порывистым шепотом твердил Сеня, — ты увидишь…
Они добежали до просторной полянки у сада. Дрожащими руками Сеня раскрыл свой ящик, и Настя увидела неуклюжую птицу.
— Смотри теперь, смотри, — восторженно произнес Сеня, устанавливая свою птицу на пень.
Птица закачалась, подняла крылья, одно движение руки Сени, и, отделившись от пня, птица поднялась и, шурша крыльями, полетела к Насте.
Это было так неожиданно, так чудесно, что Насте сделалось почти страшно. Она вскрикнула и перекрестилась.
А птица мерно плыла по воздуху, описывая широкий круг, и потом тихо опустилась на руки Сени.
— Сеня! Что ж это такое? — не веря своим глазам, спрашивала Настя.
— Настя! — воскликнул сияющий радостью Семен. — Видишь теперь нашу сказку? Я сделаю такую же большую-большую птицу, и мы полетим с тобой, куда захочешь. Нет, я лучше сделаю и тебе, и себе такие крылья, мы будем тогда свободны как птицы, мы улетим, куда хочешь, за море-океан, в чужие края, где растут золотые яблоки и поют райские птицы. Мы будем летать над нашей Волгой, над Хвалынским морем. И никто не остановит нас, никто там не поставит нам заставы.
Словно волна вдохновения подхватила Настю. Да, Сеня прав, все возможно. Крылья! Крылья! Она так часто завидовала свободным чайкам. Она так часто рвалась за ними к синему небу, к перистым облакам. Часто снилось ей, что она летает с их легкими стаями, и вот этот чудный сон готов осуществиться.
А Сеня, укладывая в ящик свою дивную птицу, все говорил, говорил! Говорил о том, что скоро уже будут готовы для него крылья, что если целому войску дать крылья, то это будет как сонм архангелов, против которых бессильны вражеские пули…
Настя, ошеломленная виденным, едва слушала. Она с восторгом смотрела на Сеню и не узнавала его.
Он упаковал свою птицу и сел с Настей на скамейку.
И в эту минуту, как некогда в дни детства, Насте казалось, что нет между ними никаких преград. Она тихо взяла за руку Сеню.
— Ты покажешь это батюшке? — спросила она.
И в этом ее вопросе, — так с детства она привыкла называть своего дядю, — как показалось Сене, было что-то многообещающее, не простой вопрос, а словно залог лучшего будущего.
— Еще бы! — восторженно отозвался Сеня. — Еще бы!.. Не ему ли я всем обязан?! Что бы я был без него? Он умный, он все знает, он поможет, оценит.
Он держал руку Насти в своей руке, и в эти минуты ни слава, ни могущество не могли дать ему больше. Все, что он сделал, все, что хотел сделать, имело, как ему сейчас казалось, единую цель — Настеньку. Что без нее значило бы то, что он сделал?
Не о ковре ли самолете, чтобы улететь вместе с нею, мечтал он часто, отрываясь от постоянных дум своих? Для кого он работал? Только для нее. Бесконечной и скучной пустыней казались бы ему глубокие небеса, если бы он не мог парить вместе с нею в их безграничном просторе.
Полюбила ли его Настенька в эту минуту торжества его разума, но он только с этой минуты понял ясно, как никогда, что вся жизнь его, все вдохновение, все плоды бессонных ночей и это чудесное торжество — все было для нее и от нее.
Он едва смел дышать, держа в руках ее теплую руку.
После своих восторгов, вызванных «чудом», Настенька притихла. Замолчал и Сеня.
Был тот таинственный, предзакатный час, когда, творя, должно быть, свою вечернюю молитву, на несколько минут затихает вся природа. Ни шелеста, ни звука.
Это бывает в знойные тихие дни… И бездонное небо властно манило к себе, и руки невольно сжимались крепче в молчаливом пожатии…
Но громкие голоса и шум весел на реке спугнули эту тишину, полную очарованья.
По реке к их маленькой пристани направлялась лодка.
Двое гребцов усиленно гребли, на корме сидел молодой офицер в красном мундире Измайловского полка, в треуголке, ботфортах и со шпагой.
Подъезжая к пристани, офицер приподнялся и, заметив сидевших на скамейке, громко спросил:
— Здесь вотчина майора Кочкарева?
Настя вся вспыхнула и быстро вскочила со скамейки.
— Здесь, — ответил Семен, и тяжелое чувство стеснило его сердце при взгляде на красивую, статную фигуру молодого офицера.
Офицер скомандовал, и лодка причалила к пристани.
Он легко и ловко выпрыгнул и, поддерживая рукой шпагу, направился к Настеньке.
В первый раз в жизни видела Настенька так близко чужого молодого офицера.
Она обомлела.
Сеня побледнел и был готов уйти.
Офицер учтиво снял свою треуголку и, подойдя к Настеньке, снова спросил:
— Вотчина майора Кочкарева?
— Да, — едва пролепетала Настенька.
Молодой офицер с видимым удовольствием смотрел на ее юное, красивое лицо.
— Я Павел Астафьев, — произнес он, держа шляпу в руке, — я только что приехал из Петербурга, узнал, что батюшка здесь, и осмелился сам приехать.
Тон речи молодого офицера был совершенно нов для Настеньки. Она еще пуще покраснела и тихо, едва слышно промолвила:
— Ваш батюшка здесь, он сидит сейчас у батюшки.
Молодое красивое лицо офицера просияло.
— А, так вы будете дочерью майора Кочкарева?
Сеня сам не понимал, почему его мучил этот разговор.
Но перед этим блестящим петербургским гвардейцем он чувствовал себя, как мальчик, растерянный и смущенный. Ему было неприятно и то, что Настенька так растерялась.
Но женское чувство подсказало ей, как надо поступить.
— Идите в эту калитку, — отворачиваясь, произнесла она, — по этой дорожке вы дойдете до крыльца.
И, повернувшись к офицеру спиной, она отошла в сторону.
Офицер низко наклонил голову и торопливо пошел по указанному направлению.
— Прощай, Настя, — тихо произнес Семен, стоя перед ней со своим ящиком.
Глаза Сени погасли, фигура снова приобрела обычное выражение робости и покорности.
Настя не позвала его наверх, и он почувствовал это. Еще бы! Нельзя же поповского сына сажать рядом с петербургским гвардейцем! Настя тоже ощущала некоторую неловкость.
— Прощай, Сеня, — сказала она. — Приходи скорее, покажи это батюшке.
Сеня уныло кивнул головой и побрел своей дорогой к родному селу.
Он шел, опустив голову, и невеселые мысли теснились в ней.
Настя посмотрела ему вслед и вдруг, весело рассмеявшись, побежала в сад.
Грустный вернулся домой Сеня, припрятав свою птицу в тайничок. На сердце его было тяжело. Недавнее торжество сменилось упадком духа. Встреча с офицером его расстроила.
— Что, Сеня, так поздно? — спросила его мать, Арина Ивановна, когда он переступил порог их убогой хибарки.
— Так, матушка, гулял… — ответил Семен.
— Гулял, гулял, — недовольно проговорила старуха. — Ишь, какой бледный, думаешь много, оттого и плох. Бог-от не любит таких. Живи, не мудри… Уж коли положен предел — так и не рассуждай.
Семен улыбнулся.
— На то, матушка, Бог и разум дал, чтобы его творения постигать.
— Ладно, ладно, — отозвалась старуха. — Есть-то хочешь, целый день невесть где пропадал.
И действительно, увлеченный своей удачей, Семен целый день не ел, забыл. А теперь почувствовал голод.
Мать поставила на стол уху и кашу, и Сеня с жадностью принялся за еду.
Должно быть, голод содействовал его мрачным мыслям, потому что по мере того, как он насыщался, настроение его светлело.