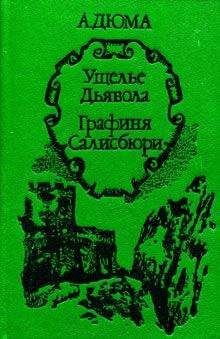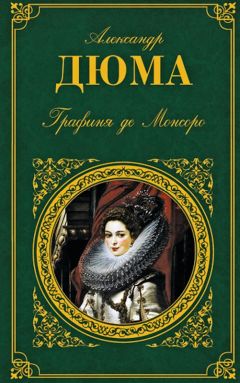Эта встреча была так жестока, что конь Дугласа присел, а подпруга седла Гильома Монтегю лопнула, от чего оба противника свалились на землю, — Дуглас встал на ноги, а Монтегю на одно колено. Но прежде, нежели шотландец смог приблизиться на половину расстояния, отделяющего его от противника, зашатался и по текущей из-под брони его крови видно было, что он опасно ранен. Старшины в ту же минуту скрестили копья в знак прекращения поединка. И тогда только заметили, что и Гильом Монтегю был также тяжело ранен; потому что он, стараясь подняться, упал сперва на оба колена, а потом на руку. В самом деле, противники ранили друг друга; копье Гильома Монтегю прокололо щит и, соскользнув по нагруднику Дугласа, вонзилось ему ниже плеча, тогда как копье Дугласа, пробив забрало шлема, остановилось выше брови во лбу Гильома Монтегю и, переломившись, пригвоздило шлем к голове.
Старшины поняли в ту же минуту опасность обеих ран и, спрыгнув с лошадей, бросились на помощь раненым; мессир Иоанн Бомон к Дугласу, а Салисбюри к Гильому Монтегю, и пока шотландца уводили с ристалища, граф Салисбюри хотел вынуть из раны острие преломившегося копья, но Гильом остановил его руку.
— Нет, дядюшка, подождите, — сказал он, — я боюсь умереть в ту минуту, как копье будет вынуто из раны; позовите священника, я хочу кончить жизнь, как христианин.
— Не позвать ли прежде врача? — спросил Салисбюри.
— Священника, дядюшка, священника, и поскорее ради Бога!
Граф Салисбюри позвал громко сидящего подле королевы епископа Линкольнского, объявив ему, что рана опасна и может быть смертельной.
Графиня тихо вскрикнула, многие дамы упали в обморок, другим сделалось дурно; епископ сошел с возвышения и приблизился к графу Салисбюри.
Тогда посреди ристалища, собрав последние силы для священного действия, Гильом Монтегю стал на колени, скрестил на груди руки и исповедался в полном вооружении; епископ Линкольнский дал кающемуся отпущение грехов, в присутствии всех женщин, молившихся о раненом, и всех рыцарей, которые как милости от Бога просили себе такой же прекрасной смерти, какую он посылал Гильому Монтегю.
Получив отпущение грехов, раненый, не страшась уже более смерти, не противился тому, чтобы железо было вынуто из раны; поэтому граф Салисбюри, приблизившись к племяннику, положил его на спину и, упершись коленом в грудь его, с большим усилием успел выдернуть из раны обломок копья; потом отстегнув шлем, которого прежде невозможно было снять, потому что он, как сказано выше, был пригвожден к голове раненого; и, освободив его от этой тяжелой железной оболочки, заметил, что Гильом Монтегю был без чувств; оруженосцы бросились к нему на помощь, и граф Салисбюри перенес с ними раненого в его шатер.
Присланный Эдуардом придворный доктор осмотрел рану. Салисбюри, любивший Гильома Монтегю как сына, со страхом ожидал проговора; но к довершению его опасений он был для молодого рыцаря неблагоприятен. Доктор приказал подать себе обломок вынутого из раны копья и по запекшейся на нем крови заметил, что оно на два дюйма глубины вонзилось в рану. Доктор значительно покачал головой, как человек, теряющий последний луч надежды. В эту минуту явились слуги от короля с приказанием перенести Гильома Монтегю в назначенные для него комнаты замка Виндзора; но по слабости, в которой находился раненый, доктор воспротивился исполнению желания Эдуарда.
Салисбюри принужден был оставить Гильома Монтегю прежде, чем он пришел в чувство. Обязанности службы призывали его к королю, потому что в тот же самый вечер он должен был отправиться в Марган для того, чтобы Оливье Клиссон и сир Гаркур подписали свое обещание, получили через него от короля свободу. Салисбюри был из числа тех людей, которые для исполнения обязанностей службы жертвуют сердечными привязанностями; так что, поручив Гильома Монтегю как сына своего попечениям доктора, отправился к Эдуарду.
Графиня Салисбюри просила позволения короля не присутствовать за ужином, на что король изъявил согласие; потому что и он так же, как и все присутствующие, понимал огорчение, причиненное ей этим несчастным случаем. Всем было известно, с каким почтением и верностью молодой человек охранял ее во все время плена графа; и хотя некоторые и подозревали в поведении племянника привязанность нежнее той, которая должна бы быть по одному только родству, но добродетель графини Алиссы так была всем известна, что эти подозрения нимало не повредили ей в общем мнении. Впрочем, хотя и отдавали справедливость графине в непорочности чувств ее к молодому кастеляну, но надо признаться, что она имела к нему чувство истинной, нежной братской дружбы, к которой присоединялась жалость, ощущаемая всегда женщиной, как бы добродетельна она не была к человеку, который ее тайно и безнадежно любит.
Алисса при входе Салисбюри не старалась скрыть своего огорчения, она была уверена, что он не упрекнет ее за слезы, проливаемые ею по его племяннику. И в самом деле, Салисбюри, собрав только все свое мужество, мог и сам воздержаться от слез. Он пришел проститься с графиней, потому что, несмотря на все убеждения Эдуарда отложить на несколько дней поездку в Маргат, непоколебимый посланник понимал всю важность поручения, спешил его исполнить и в тот же вечер отправился, поручив Гильома попечениям графини.
Эта разлука, как ни казалась она кратковременной, происходила при несчастных предзнаменованиях и была с обеих сторон сопровождаема грустными предчувствиями; и ежели бы сердце графа Салисбюри было менее предано королю и не так твердо в исполнении своих обязанностей, то он, наверное, упросил бы Эдуарда выбрать кого-либо другого, вместо него, для окончания начатого им дела. Но граф отвергнул эту мысль, пришедшую ему в голову, как преступление и, черпая новую силу в обвинении себя за то, что хотя и на одно мгновение, но мужество его поколебалось, он простился с Алиссой, предоставив ей на волга ожидать его возвращения в Лондон или отправиться обратно в замок Варк.
Когда графиня осталась одна, то все эти грустные мысли наполнили ее душу сильнейшей грустью, и несчастье, случившееся с Гильомом, представилось ей во всем его ужасе. По этой причине, желая разрешить сомнение, позвала одного из пажей и приказала ему узнать о состоянии здоровья раненого. Паж через несколько минут возвратился; потому что, как сказано выше, шатры рыцарей отделены были от замка только ристалищем. Гильом все еще был без чувств, поэтому доктор и не мог изменить прежних своих определений; по его мнению, рана была смертельна, и хотя и можно было ожидать, что раненый придет в чувство, но не было никакой надежды, чтобы он мог прожить более суток. Ответ этот, несмотря на то, что Алисса должна была ожидать его, по словам графа, поразил ее жестоко, она припомнила неограниченную его к ней преданность, робкую безмолвную любовь в продолжение целых четырех лет, в которые Гильом Монтегю не оставлял ее ни на минуту, кроме только кратковременной по ее приказанию и для ее же спасения отлучки из замка Варк. В продолжение этих четырех лет она все происходящее в сердце молодого человека читала, как в книге, листы которой перевертывало в ее глазах время, и в этом сердце видела только чистую любовь. Представив себе несчастного раненого молодого человека, который еще накануне был весел, здоров, с прекрасными надеждами на будущее, она думала, что он сего дня придет в себя для того только, чтобы узнать всю опасность своего положения и чувствовать приближение смерти. Оставленный всеми, лежал он один в шатре своем, и ей казалось, что если она даст ему умереть в отсутствие двух единственно им любимых существ, то совесть будет укорять ее во все продолжение ее жизни. Несколько времени она не решалась, раза два вставала, потом в раздумье опять падала в кресла; опасаясь, чтобы не перетолковали в дурную сторону замышляемое ею посещение, сознавая чувство свое к нему сильнее одних родственных связей. Наконец, сердце превозмогло мнение Света и она, накинув на голову покрывало, одна без пажа или слуги, вышла из замка Виндзора и пошла к шатру Гильома Монтегю.
Предположение доктора оправдалось; Гильом пришел в себя, и медик, получивший приказание Эдуарда беспокоиться равномерно об обоих раненых, воспользовался этой минутой, чтобы навестить Дугласа, который хотя и безопасно, но однако же был тяжело ранен. Гильом Монтегю был в горячке и по временам в бреду; едва несколько человек могли удерживать его в постели. В эти минуты ему представилась тень, к которой, употребляя все усилия, он хотел броситься, и несмотря на то, что находился в бреду, но осторожность его была так велика, что ни одного раза не произнес имя той, которую любил, призывая ее только мольбою и жалобными стонами. В одну из этих восторженных минут графиня приподняла занавес, прикрывающий вход в шатер, и присутствием своим осуществила лихорадочный бред, предшествовавший ее появлению. Люди, удерживавшие Гильома, увидев осуществившееся видение, им призываемое, невольно его оставили, даже сам Гильом вместо того, чтобы броситься к ней навстречу, откинулся назад в постель, устремил неподвижно взор, скрестил руки на груди и, казалось, как будто молился. По данному графиней знаку, слуги вышли из шатра, но остановились за занавесом, чтобы успеть явиться опять по первому приказанию.