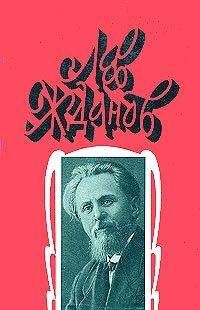Сейчас же, не теряя ни минуты, Голицын и Шакловитый составили окружные граматы, чтобы разослать их по городам, призывая дворян и всякого роду служилых людей с оружием и конями на защиту царской семьи и всего государства, которому угрожает гибель от заговорщиков — Хованских.
А затем весь двор двинулся дальше, сперва — в обитель Саввы Сторожевского, что за Звенигородом, но, найдя убежище это ветхим и ненадежным, поспешно укрылись за высокими каменными твердынями Троицко-Сергиевской лавры.
И сюда немедленно стало стекаться молодое и старое служилое дворянство, радуясь случаю: послужить государям и при этом получить награды и разные выгоды, неразлучные с близостью к царскому двору.
Как громом поразило Хованского известие, что по городам посланы «призывные граматы». Старый хитрец понял, что все пропало. Но думал еще отыграться и на прежних заслугах своих, и на показной покорности.
Еще на полпути к Лавре получено было письмо от Хованского.
На Москву ехал сын Малороссийского гетмана Самойловича с важными поручениями. И «батюшко стрелецкий», делая вид, что не догадывается о грозящей ему опале, спрашивал: как поступить с почетным гостем? Как принимать и посылать ли его немедленно к государям в их местопребывание?
— Ишь, старый дурак, чем отыграть свою душу мыслит от секиры, — проговорила Софья, пробежав письмо. И тут же велела Шакловитому написать самый ласковый, ответ от имени государей: пусть-де сам пожалует к государям в Воздвиженское. Там и потолкуют.
На первое письмо Хованский не ответил и не поехал.
Тогда были написаны приказы стрелецким полкам: выслать выборных к государям. Вслед за этими грамотами сама Софья поспешно выехала в Москву.
— Очами увижу и ушами услышу: жить ли нам еще, государям, на Москве или отойти надо в иные земли, — объявила она перед отьездом.
Первым делом — повидалась царевна с Иваном Хованским.
Спокойно выслушала девушка град жестоких упреков, какими осыпал ее несдержанный гордец, и со слезами на глазах отвечала:
— Вот и вижу: навет был ложный на тебя, князь. Говоришь не как лиходей и губитель, а как верный слуга и друг, коему обиду нанесли государи, сами не желая. Да не кручинься. Дворяне, что съехались, и на войну идти пригодятся, куда ты стрельцов посылать ладил. А ты со стрельцами при нас останешься, как и был. Я сама вперед поеду. Все скажу государям. И ты за мною следом жалуй к ним. Опаски не имей… Там — и сестра Катерина. Может, и доброе дело сделаем. Вот и родней станем. Не найдешь причин губить родных своих, хоть и желал бы…
И Хованский и стрельцы были обмануты такими речами. А тут, не успела уехать Софья, пришла вторая грамота от царей, еще более ласковая, чем первая.
Бестолковый всю жизнь, Хованский нелепо сам сунул голову в мертвую петлю.
В Москве, среди стрельцов, князь еще мог чувствовать себя более безопасным, мог поторговаться с Софьей, если бы даже нагрянули за ним отряды дворян.
Но, как трус, он не умел спокойно обсудить дела. Отчаяние, часто заменяющее людям трусливым отвагу, толкнуло князя на явную гибель.
С тридцатью семью стрельцами всей свиты выступил Иван Хованский из Москвы по зову царевны. Софья не верила известию о такой скромной свите. Она заподозрила, что здесь кроется какая-нибудь хитрость, которой не могли проникнуть ее агенты в Москве: дьяк Горохов, Плещеев, Хлопов и Сухотин.
В виде разведочного отряда высланы были копейщики, рейтары и городовые дворяне под начальством князя Лыкова.
В Пушкине настигли они Хованского, старика, схватили и взяли под караул со всеми его стрельцами.
Молодой князь Андрей был также недалеко, в своей усадьбе, на Клязьме-реке. Его тоже взяли без сопротивленья.
Не давая возможности обоим явиться перед царями-братьями, бояре во главе с Милославским нарядили скорый и безжалостный суд. Без допроса, не вызывая свидетелей, не принимая оправданий, объявили приговор.
17 сентября, как раз в день ангела Софьи, судили обоих князей: отца и сына, приговорили к смерти и тут же казнили.
Стрелец Стремянного полка, понаторевший в убийствах во время майских мятежей, обезглавил первым отца, так как палача при царской свите не нашлось.
— Умираю безвинным, как и отец мой, — в последний раз произнес Хованский. — Не дали нам и сказать: кто виной тех составных действий, кои нам в вину поставлены. Или побоялись, што первые персоны от тово устыдятся. Да простит вам Бог нашу безвинную кончину, бояре. Сами не дождитесь такой же… Есть Бог в небесах…
Сказал, поцеловал труп отца, лежавший обезглавленным, ничком на земле, и положил голову на плаху, которая была заранее приготовлена здесь, на площади, еще до прибытия Хованских.
И всем тридцати семи выборным, захваченным с князьями, тоже срубили головы.
Но бояре не подумали о том, не вспомнила и Софья, что на казнь отца глядел второй, младший сын князя Хованского, Иван Иваныч, стольник царя Петра.
Ночь еще не настала, как он прискакал в Москву, прямо в стрелецкие слободы. С ним вместе прискакал товарищ его, Григорий Языков.
— Братья, други, што поведаю вам. Слов нет от горести. Не стало моего родителя и вашего общего отца-защитника. Убили его бояре без суда, без розыска, без ведома царского, как режут пастухи овцу чужую, забеглую…
— Переведут они и вас всех в одночасье, — кричал Языков. — Одоевские да Голицыны хотят всю надворную пехоту вырубить. Едучи дорогою, мы видели: несметное множество воинов со всех сторон идут к Москве великим боем, чтобы в слободах ваших извести всякую душу живую, до последнего младенца… И дворы пожгут… Князь Андрей с северцами от Твери идет. Князь Петр Урусов от Владимира полки ведет. Боярин воевода Шеин на Коломенском пути с рязанцами своими. А воевода Волынский от Можайска подошел… Конец вам приспел, коли не станете за себя, за жен, за детей ваших…
Было дело уже к полуночи. Недолго совещались стрельцы и решили: отсидеться в Москве, не пускать сюда ни друга, ни недруга.
— От татар отсиживались и своих не пустим, коли што…
После многих дней тишины — снова зазвучал набат в самую полночь.
Поднялась на ноги испуганная Москва: неужели снова мятеж? Или горит весь город?..
Все высыпали на улицы…
А по ним — двигались отряды стрельцов, с мушкетами, с пиками… У городских ворот ставили караулы. В Кремле заперли все входы и выходы, забрали всю артиллерию, все припасы с Пушечных дворов и развезли их по полкам.
— Пусть теперь сунутца… Встреча готова, — вызывающе толковали стрельцы, — не холопы мы али торгаши безоружные, сами воевать умеем…
— Да чем тут бояр ждать, гайда в Воздвиженское, покуда там сила великая не собралася, — предлагали более отчаянные головы.
Но их не послушали.
И так у многих с первыми лучами рассвета отвага стала остывать, более благоразумные мысли являлись в голову.
Часть стрельцов из начальных людей, окруженные и рядовыми, еще ночью ворвались в покои самого патриарха, в его Крестовую палату, где он, облаченный, сидел, услыхав о приближении незваных гостей, старых знакомых по майским бесчинствам и разбоям.
— За нас постой, отец патриарх, — кричали все, кто проник в палату, — граматы пиши на Украину, во все города, шли бы казаки не к государям, а сюды, на Москву, тебе и нам на помочь. А не захочешь, с боярами заодно встанешь — тебя, гляди, не помилуем. Нам своя шкура — всево дороже…
— Чада мои, — взмолился Иоаким, — разве ж послушают меня украинцы? Давно я оттуда. И не знают там, гляди, что я и сам — украинец… Всуе помыслили. Лучче Бога да государей молите: не покарали бы вас за буйство…
— Поди ты, старец… Што розумеешь… Гайда, братцы, упредим бояр, на Воздвиженское.
— Не спеши в петлю, сама придет. Пождем, што от бояр, каки вести будут, — останавливали другие нетерпеливых товарищей…
Так время прошло до рассвета.
Вдруг топот коней и голоса послышались перед палатами патриарха.
— Иди, иди к святейшему. Поглядим, каки таки граматы у тебя, — кричали возбужденные, хриплые голоса.
Стоящие у застав караульные не спали всю ночь, но перехватили-таки посланца царского, стольника Зиновьева.
— Вот, читай наголос, отче, што пишут тебе государи, — потребовали стрельцы, подавая послание Иоакиму.
Он сломил печати и прочел вслух извещение о казни Хованского.
Когда дошло до места, где говорилось, как старик Хованский оговорил московскую надворную пехоту в заговоре против царей, так и всколыхнулись все, кто был здесь. Тут же прочел патриарх приложенный к письму царей донос на Хованских.
— Неправда все это… Быть тово не может!
— Слушайте же дале, чада мои, — остановил их патриарх.
Конец послания обещал полное прощение надворной пехоте и забвение всем, если стрельцы перестанут волноваться, не станут слушать «прелестных» слов и лукавым письмам веры не дадут.