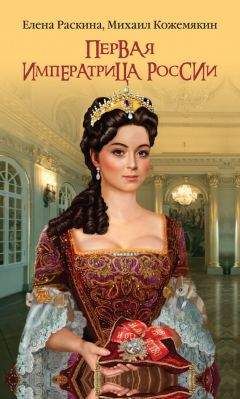«Мой драгоценный бриллиант, моя смелая воительница, пани Марта, фрау Крузе! — писал Меншиков, и девушке явственно послышался его ироничный мягкий голос. — То, что произошло между нами, считайте достойной досады случайностью, тогда как я буду именовать это счастьем! Вы вольны забыть все, я же забуду лишь вашу победоносную оборону. В моем доме вам и впредь будет оказано полнейшее уважение. Можете чувствовать себя здесь совершенно спокойно и свободно исполнять свою службу экономки. Нынче же вечером я отбываю к войскам на театр войны, хотя, признаться, после неких событий придется мне ехать в возке, а не верхом. Ежели нам более не суждено свидеться, тщусь мыслью о вашем прощении…»
Марта не дочитала этого странного послания. Меншиков был для нее обманщиком и насильником, и все же что-то мешало девушке относиться к этому человеку только с ненавистью. В красавце Менжике проглядывало нечто, заслуживающее искреннего уважения. Наверное, некое благородство, которому он так редко давал выход. Несомненно — удаль, сила, ум. Но хитрец, казнокрад, бабник и пройдоха в Данилыче были сильнее…
До отъезда Меншикова в армию Марта не выходила из своей комнаты. Потом собрала скудные пожитки и попыталась было покинуть дом, но у самых дверей путь ей преградил здоровенный одноглазый солдат из денщиков хозяина. «Не велено уходить, барышня!» — непреклонно сказал он. «Кем не велено?» — в отчаянии спросила Марта. «Господином Меншиковым, кем же еще?» — охотно ответил служивый.
«Рабыня, — поняла Марта, — теперь я и вправду рабыня… Раньше надо было бежать! В первый же день, нет, еще из Москвы, нет, еще раньше, из лагеря Шереметева!» Спорить с солдатом было бесполезно, и Марте пришлось вернуться к себе. Уже в своей комнате она покаянно поднесла к губам католический крестик, подарок покойной матушки, и зашептала молитвы — сначала по-латыни, как некогда ее родители, потом по-немецки и по-латышски, как учил пастор Глюк. А потом и по-русски, как выучилась от Аннушки Шереметевой. «Господи, единый и всещедрый! — со слезами молила она. — Господи Иисусе Христе, спаси меня, грешную, и помоги! Мати Пресвятая Богородица, смилуйся надо мной!»
Глава 7
ГНЕВ ЦАРЯ АРТАКСЕРКСА
Александр Данилыч Меншиков нагрянул в Питербурх неожиданно, как и всегда. Примчался в простом возке, зычно прикрикнул на нерасторопных слуг и вошел — в выцветшем драгунском мундире, в заляпанных засохшей грязью ботфортах, бренча шпагой и шпорами, с неожиданно открытой улыбкой на обветренном лице. Марте невольно подумалось, что таким этого опасного и странного человека ей еще не приходилось видеть. Простым… и это явно неспроста!
— Батюшка!.. Батюшка идет! — прошелестел вдруг среди челяди устрашенный и восторженный шепоток, и следом за хозяином в меншиковский дом размашисто вступил высокий, даже выше, чем это обычно бывает, но нескладно узкий в плечах человек с круглым, выразительным лицом. Лицо это, нездорового воскового оттенка, с забавными, словно приклеенными жесткими черными усами, не было красиво, но поражало и притягивало взгляд своей необычайной особенностью. Нервически вздрагивая щекой, оно умело стремительно менять выражения, становясь то необузданно свирепым, то бесшабашно веселым и добродушным, но неизменно сохраняя некое внутреннее озарение светом значительности… Нет — величия! Когда Марта увидела это лицо, внезапное откровение пронизало все ее существо, словно приступ лихорадочного озноба: это он, страшный азиатский владыка, царь Артаксеркс! Царь Петр! По всему ее телу прошла противная дрожь, и захотелось спрятаться куда-нибудь в темный угол, забиться в щель, как мышь. Ведь появление этого человека в доме Меншикова стало последним актом ее драмы, предсказанной и пережитой еще в Мариенбурге!
Она смотрела на Менжика и его царственного спутника с верхних ступенек парадной лестницы, смотрела молча, оцепенев и не смея даже склониться в учтивом реверансе… Царь пришел за ней! Он пришел сюда именно за ней, даже если еще сам не сознает этого! Это — судьба. «Господи, помоги!» — шептала Марта, судорожно сжимая в пальцах материнский крестик. Но какой бы великий ужас ни охватывал в тот миг все ее существо, она отчетливо чувствовала, что должна быть рядом с этим русским Артаксерксом, а не бежать от него. Эсфирь, став женой Артаксеркса, спасла еврейский народ. Кого же спасет она, Марта?
Петр и Меншиков загрохотали вверх по лестнице грубыми солдатскими сапожищами, с которых на дорогие ковры осыпалась засохшая грязь. Менжик радушно, как доброго друга, обнимал своего царственного покровителя за плечи, однако в простом жесте его чувствовалась целая бездна неискренности, лести и лукавства. Марта метнулась к стене, пряча вспыхнувшее лицо в ладонях, но было поздно — Александр Данилыч уже окликнул ее:
— Что же это вы прячетесь от нас, фрау Крузе, будто мы тати в нощи? Великий государь желает познакомиться с вами!
— Ну-ка, показывай свое сокровище! — весело сказал царь; голос у него был зычный и не лишенный приятности. — Да не бойтесь вы, фрау, я вас не укушу!
— И не прикажете отрубить мне голову? — с внезапным вызовом спросила Марта, оборачиваясь.
Ее ответ был неслыханной дерзостью — это поняли все присутствующие, от склонившихся еще ниже, как на плаху, слуг до Меншикова, который изменился в лице и за сутулой спиной царя сделал Марте умоляющий жест.
— Голову, фрау? — весело расхохотался царь. — Вот эту хорошенькую головку на этой беленькой шейке? А легко рубить будет, верно, Данилыч?! Ты ее, душегуб, одним ударом снесешь. Только зачем?
Меншиков с облегчением увидел, что Марта развеселила царя, и засмеялся тоже. Но смех его сейчас был каким-то деревянным, искусственным. Эта непокорная и неблагодарная ливонка, как видно, совсем дура, коли не боится разбудить царский гнев, подумал он. Или всерьез решила погубить своего недавнего любовника — Меншикова, и это еще хуже.
— Фрау Крузе, — поспешил вмешаться в разговор Александр Данилыч, подсказывая Марте верный путь, — великий государь вовсе не собирается казнить вас. Его величество карает только государственных преступников, а вы еще не стали таковой. К нам же, верным холопам своим, Петр Алексеевич милостив, словно красное солнышко, и очень щедр!
— Ну, Алексашка, ты своего и без моих щедрот не упустишь, шельма! — Петр шутливо двинул своего Данилыча по шее. — Вон рожа-то как лоснится! Морду нажрал…
— Мин херц, для твоей же царственной особы радею! — Меншиков придал своей хитрой физиономии умильное выражение глубочайшего смирения и потешно развел руками.
— Смотри совсем не заворуйся, повешу! — довольно добродушно заметил царь и вновь обратился к Марте: — Завари-ка лучше нам кофию, голубушка! Данилыч говорит, ты отменный кофий варишь. Принесешь вниз, к столу. И сама уважь нас своей компанией, посиди с нами!
— Разрешите мне после уйти к себе, Ваше Величество, — попросила Марта. Эта тихая просьба прозвучала еще более дерзко, и Меншиков снова заметно погрустнел, а царь, напротив, посмотрел на нее заинтересованно. Глаза у него были небольшие, карие и жгучие, словно комочки расплавленного янтаря.
— Чем же наше с Данилычем кумпанство тебе, красавица, не мило? За одним столом сидеть с нами брезгуешь? — с явным любопытством спросил Петр.
— У господина Меншикова вина слишком пьяные! — с вызовом сказала Марта. — И в бокалы он любовное зелье подливает! Он меня опоил и обманом взял!
— Зелье? Любовное? — расхохотался царь. — Ты что же, Алексашка, с Евиным полом сам собой уже не справляешься? Сикурсу колдовского ищешь на поле ристания амурного?
— Что ты, мин херц, — искренне обиделся Меншиков. — Мы и без сикурсу, своими молениями любвеобильной богине Венус справляемся. Это она так шутит! Забавница у нас фрау Крузе…
— Нет, она не шутит. — Царь вдруг жестко взял Марту за подбородок и пристально заглянул ей в глаза. Марта не отшатнулась, стерпела.
— Глаза у нее не лгут, — продолжил царь, где-то в глубине закипая яростью, подобно древнему вулкану. — Ты что ж, опоил ее, Данилыч?!
— Мин херц, государь Петр Алексеевич, ну зачем мне такую обиду чинишь! — запротестовал Меншиков и незаметно показал Марте кулак. — Чтоб мне, да всякая девка по доброму согласию не дала?!
— Я не всякая! — оскорбленно воскликнула Марта. — Я его не люблю и уйти хотела — только он не пустил!
— Ты что же, ее силой взял?! Меня позоришь… — Нервное лицо царя переменилось в одно мгновение и стало лютым и страшным. Губы искривила судорога, глаза словно хотели выскочить из орбит. Брызжа слюной, он принялся несвязно выкрикивать исполненные злобы и досады слова:
— При всех дворах европейских! Скажут!! Насильник, разбойник у московта первым в совете! Что дики мы!! Варвары!.. Мы!!! В крови, в поту, в трудах!.. К Европе!.. К миру широкому!.. Нас — варварами!! Алексашка, сволочь! Тать!! Волк!!! Живой кровью кормишься!.. Запорю, холоп!!!