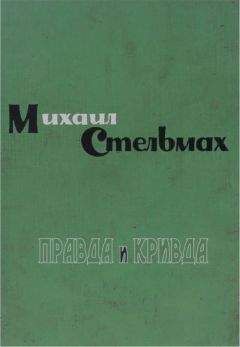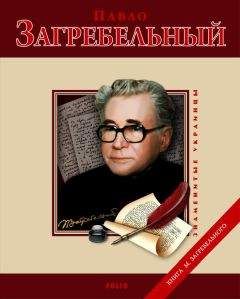- Подождем вестей от Ганжи, - успокаивал я своих полковников.
- Ты и Ганжу отправил, чтобы укоротить нам руки, - промолвил Нечай своим тяжелым, упрямым голосом.
- Скажи ему, Кривонос, - просил я Максима.
- А что говорить?
- Держишь на вестях всю степь, скажи всем, что там и как.
Кривонос не хотел становиться ни на чью сторону.
- Говорить можно все, а можно обойтись и без слов.
- Разве я не прав? - с прежней яростью наседал на меня Нечай. - До каких пор будем сидеть в этой степи? Нужно ударить на панов и смести их с лица земли!
- Ты уже бил - и что же? - спрашивал я.
- И молот не от одного удара сплющивает железо.
- Не хочу, чтобы наш люд тоже сплющивался.
- А чего же ты хочешь, гетман?
- Гетманов не спрашивают, а ждут их слова.
- Так какое же твое слово, гетман?
У меня не было слова. Я ждал. Чего? Откуда? От кого? На что надеялся, чего ждал?
У молодого Потоцкого с Шемберком была надежда на гетманов коронных с войском, которые могли когда-то прийти. А я? Если бы и хотел кто-нибудь бежать ко мне, то не знал, где искать. С тех пор как вышел я из Сечи, исчезли обо мне все вести, никто не знал, где я и что, где искать меня и следует ли вообще искать, теперь только я сам мог подать о себе голос - и как же подать? Только победой.
И без того небольшое свое войско я уменьшил, тайком отослав Ганжу с его всадниками вдоль Днепра встречать байдаки с реестровыми казаками. Не для битвы - что может поделать несколько сот конницы против трех полков реестровых? - а чтобы уговорить наемное казачество, которому все равно король не платит вот уже столько лет, не плыть к Кодаку, а выйти на берег, побить своих старшин и присоединиться к восставшему казачеству и его гетману Хмельницкому. С Ганжой послал я своего есаула Демка, велев ему твердо не допускать полковника ни к каким битвам, а всячески склонять к переговорам, ибо знал: нет на свете человека, который смог бы устоять в переговорах перед Ганжой. Собственно, он сам этого не знал и каждый раз очертя голову рвался к поединкам, то ли в пешем, то ли в конном строю, сразу же вступал в бой и всегда побеждал, но считал, что побеждает благодаря силе и ловкости, а на самом же деле все было совсем иначе. Верно, был он сильным, юрким, умелым во владении белым оружием, в малом его теле было собрано так много силы, что ее хватило бы, может, на целую сотню людей, но настоящая его сила была не в сильных руках, не в широких плечах, не в неутомимости и железной выдержке (ибо сколько таких людей было вокруг!), а в его глазах. Кто знает, какие боги лепили Ганжу и снаряжали его, пуская в наш мир непростой, но сделали они так, что к его сухощавой, крепкой, как корень, фигуре, к черным, как конская грива, волосам и черным, как ночь, бровям, дали глаза невероятной синевы, и, когда этот человек смотрел на тебя, ты забывал самого себя, ощущение было такое, будто нет в тебе ни костей, ни тела, и уже и тебя самого нет, а есть только рабское безволие и желание исполнить все веления человека с неистово синими глазами. Такой человек должен был бы передвигать горы, заставлять реки течь вспять, черные леса зеленеть зимой, летом сбрасывать с себя всю листву.
И вот судьба послала такого человека полковником ко мне, и он, перед которым весь мир преклонялся, - встречая взгляд гетмана Хмельницкого, опускал глаза. Я любил Ганжу за его неистовые синие глаза и за его колдовской взгляд, а потому и послал его искать реестровиков и попытаться привести их ко мне под Желтые Воды. Приведет ли? Помогут ли ему Джелалий, Топыга и Кривуля, одолеют ли Барабаша, Ильяша Караимовича и их прихвостней?
Была еще надежда на моего союзника, капризного и неуловимого Тугай-бея, - хотя и небольшую орду привел, но когда в степи каждый одвуконь, зрелище (особенно издалека) было поражающее. Каждый день посылал я гонцов к Тугай-бею, просил явиться с ордой своей перед шляхетские очи, не сражаться, а хотя бы показаться, припугнуть, но хитрый мурза по-прежнему охотно и щедро клялся, что он брат мой до могилы, а в то же время выстаивал в стороне, все еще выжидал, не приближался к нашим лагерям, а, помаячив черным видением на горизонте, мгновенно исчезал в степи, но и это держало панство в шорах, а мое казачество знай приговаривало: "Ну и хитер же наш пан гетман, только сам бог знает, о чем Хмельницкий думает-гадает".
Казаки по-прежнему разводили по нескольку костров каждый, темнота разрывалась пламенем, ночи наполнялись топотом татарских коней, ужас летел над степью, вот в такую ночь ударить бы по шляхетскому лагерю и покончить одним махом со всей вражеской силой, потом кинуться наперехват реестровикам да побить их, не выпуская на берег из байдаков, а потом уж взяться и за коронных гетманов. Все было так и все не так. Не мог я начинать войну против народа собственного, ибо рано или поздно был бы разбит и уничтожен. Должен был вылавливать все заблудшие души, поставить их под свою хоругвь, зажечь своим огнем, вдохнуть в них свой дух, вложить в их уста свое слово - и пусть каждый считает, что все это - его собственное.
Но кому об этом расскажешь? Потому и казалось многим, что слишком долго стою я у Желтых Вод, что потерял быстроту разума, не знаю, что делать. Оцепенение нашло на меня, колебания разъедают душу.
Там, под Желтыми Водами, я до конца понял бремя власти. Имел в руках власть неограниченную, жестокую, почти нечеловеческую, а сам оставался человеком и окружен был таким же, как и сам. Должен был объединить большое и малое, а уже видел, что никогда не сможет оно соединиться и вечно будут враждовать между собой. Все свои поступки я оправдывал высшими целями, но что за дело простому человеку до высших целей, когда он хочет жить в своей естественной малости.
Я уже чувствовал свою победу здесь, в степях широких, видел ее в минуты острых прозрений, когда находило на меня нечто подобное ясновидению. Откуда оно у человека и как появляется? Надо пережить грозовую ночь страшную в безнадежном одиночестве, когда мир погибает в дикой тьме, а тут удар молнии - и врывается он белым огнем, тоненьким, словно женский волос, и в этом мгновении открывается для тебя видимое и невидимое, будущее подает тебе голос, новые миры очаровывают своей далекой красотой.
Нужно ли удивляться, что я заблаговременно предчувствовал то майское предвечерье, когда передние байдаки с реестровыми вошли в Каменный Затон и примкнули к берегу в том месте, где маячило несколько всадников. Всадников было слишком мало, чтобы напугать реестровиков, к тому же полковники и есаулы каждый день ждали вестей от молодого Потоцкого, и эти всадники как раз и могли принести их. Три байдака причалили к берегу, уткнувшись носами в песок, казаки выскакивали на землю, шли вприсядку, разминая занемевшие ноги и спины. Вприсядку же приблизились к переднему всаднику, да так и окаменели все. Сидел на черном коне, сам черный и лихой, но глаза у него такие бездонно-синие, что горели они огнем уже и не человеческим и не небесным, а словно адским, и голос у него тоже как бы с потустороннего мира приглохший, насмешливый, с какой-то дьявольской хрипотцой.
- Гей вы, продажные души, невестюки, гнездюки презренные! - твердо произнося каждое слово, гремел всадник. - За сколько же продали народ свой и бога своего? Да и больно ли разбогатели за эти иудины сребреники? Говорят, что вам и платить уже перестали? Ни паны, ни король и в помыслах того не имеют. Сколько невыданной платы уже собралось у вас? Всю Речь Посполитую можно бы купить! А вы все проливаете кровь христианскую да всё ходите под ярмом полковницким? Теперь еще и против батька Хмеля пошли? Кто звал? Куда идете? Не видите своей погибели?
Кто-то из тех, что держались позади и не поддавались неистовым чарам глаз Ганжи, крикнул без почтения:
- А ты кто такой? Чего здесь распустил язык?
- Ты! - двинулся на него конем Ганжа. - Кто ты есть, никчемный выродок? А я - Ганжа, полковник гетмана Хмельницкого! С тебя довольно? И послан к вам от самого гетмана со словом милостивым и призывным, чтобы бросали своих полковников к чертовой матери в воду на добрую прохладу, а сами присоединялись к народу своему. Ибо там, где Хмель славный, - там и народ наш украинский.
- Где же этот ваш Хмель? - послышался еще чей-то недоверчивый голос. Покажи его нам, тогда и поговорим.
- А тебе мало, что я перед тобой? - тихо спросил Ганжа. - Хочешь присмотреться ко мне внимательнее? Так подходи ближе, не бойся, я не кусаюсь! А ну-ка подходи! Ну как, казаки, чьей вы матери дети? Может, вспомните? А то мои хлопцы помогут. Весь Каменный Затон осажден моими всадниками, пушки смотрят на все ваши байдаки, а за холмами орда прячется, ждет моего свиста. Так как - биться или мириться? Принимает вас под свою руку гетман Хмельницкий, вот и идите под эту руку, а я поведу.
- Раду! - закричали казаки.
- Черную раду!
- Всем на берег!
Поставили хоругвь в том самом месте, где стоял Ганжа со своими всадниками, байдаки один за другим врезывались в береговой песок, реестровики выскакивали на сушу, бежали к толпе, от старшин пренебрежительно отмахивались, а некоторых по давнему запорожскому обычаю уже и успокоили навеки: песку за пазуху да в воду. Полковников, назначенных шляхтой, побили сразу, не тронули только Кричевского, ибо знали, что он освобождал Хмельницкого из темницы; пан Барабаш после доброго обеда спал на своем байдаке и когда очнулся, то не мог толком понять, что происходит. Звал джуру - не мог дозваться, оружие искал - не находил, не обнаружил даже ремня на своем толстом чреве. Принялся браниться, кричать на казаков, но тут кто-то стукнул его веслом, а потом еще подбежало несколько человек, приподняли толстую тушу Барабаша, перевалили за борт - только булькнуло.