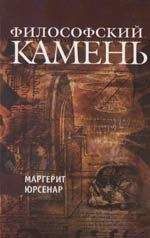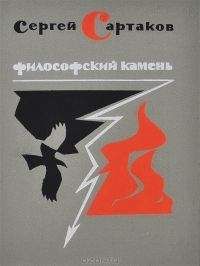Выйдя из трактира, Зенон увидел, как по улице Лонг в повозке, сопровождаемой городской стражей, провезли Иделетту. Она была бледна восковой бледностью роженицы, но на скулах и в глазах ее пылал горячечный огонь. Некоторые прохожие глядели на нее с состраданием, но большинство громко улюлюкали. Среди последних были кондитер с женой. Простолюдины мстили красивой куколке за ее роскошные наряды и бездумные траты. Случившиеся тут девицы из заведения Тыквы злобствовали больше других, как если бы Иделетта бросила тень на их ремесло. Зенон вернулся к себе с болью в сердце, словно ему пришлось увидеть, как собаки травят лань. Он поискал в убежище Сиприана, но монашка там не оказалось, а Зенон не решился спросить о нем в монастыре, опасаясь привлечь к нему внимание.
Он еще надеялся, что на допросе у пробста или секретарей суда девушке достанет присутствия духа свалить вину на воображаемого любовника. Но мужество этой девочки, ночь напролет кусавшей себе руки, чтобы удержать крик и не вызвать переполоха своими стонами, уже иссякло. Заливаясь слезами, она начала рассказывать и не скрыла ничего: ни своих свиданий с Сиприаном на берегу канала, ни игр и обрядов Ангелов. Писцов, которые записывали ее показания, а потом и обывателей, которые жадно ловили слухи, более всего ужаснуло употребление, какое было сделано из похищенных в алтаре Святых Даров, съеденных и выпитых при свете огарков. Блуд, казалось, усугублялся чудовищным святотатством. Сиприана арестовали на другой день; за ним наступил черед Франсуа де Бюра, Флориана, брата Кирена и двух других причастных к делу послушников. Арестовали и Матье Артса, но тут же выпустили, объявив, что по ошибке спутали с кем-то другим. Один из дядей Матье был советником городского магистрата.
В течение нескольких дней убежище Святого Козьмы, уже наполовину закрытое — лекарь предполагал в ближайшую неделю уехать в Германию, — наводняли толпы любопытных. Брат Люк встречал их с каменным лицом: он не верил в случившееся. Зенон не удостаивал докучников ответами. Его чуть ли не до слез растрогал приход Греты — старуха покачала головой и сказала только: «Вот ведь беда». Он задержал ее до самого вечера, попросив выстирать и починить его белье. Брату Люку он раздраженно приказал раньше обычного запереть дверь лечебницы; старая женщина, которая шила и гладила у окна, действовала на него умиротворяюще и дружелюбным молчанием, и словами, исполненными спокойной мудрости. Она рассказывала неизвестные ему подробности из жизни Анри-Жюста, вспоминала о его мелочной скаредности или о том, как волею или неволею он добивался милостей от своих служанок; впрочем, он был не такой уж дурной человек, в хорошие минуты не прочь был пошутить и оказать щедрость. Она помнила, как звали многочисленных родственников, о которых Зенон не имел понятия, и как они выглядели: она могла, например, перечислить целую вереницу братьев и сестер, которые появились на свет между Анри-Жюстом и Хилзондой и умерли в младенчестве. На мгновение Зенон задумался о том, какими могли бы стать эти так рано оборвавшиеся судьбы, побеги одного и того же дерева. Первый раз в жизни он со вниманием выслушал подробный рассказ о своем отце, чье имя и историю он знал, но на которого в детстве при мальчике только намекали с горечью. Этот молодой кавалер-итальянец, сделавшийся прелатом лишь по наружности и для того, чтобы удовлетворить своему честолюбию и тщеславию родных, задавал балы, с вызовом красовался на улицах Брюгге в красном бархатном плаще и золотых шпорах и соблазнил девушку, столь же юную, как нынешняя Иделетта, только более удачливую, а вообще ничем от нее не отличавшуюся; плодом этого и стали все те труды, приключения, размышления и планы, какие длятся вот уже пятьдесят восемь лет. В этом мире, единственном, который нам доступен, все куда более удивительно, нежели мы привыкли думать. Наконец Грета положила в карман свои ножницы, нитки и игольник и объявила, что белье готово для дороги.
После ее ухода Зенон разжег печь, собираясь искупаться в бане с парильней, которую, по его распоряжению, оборудовали в закутке убежища по образцу той, что была у него в Пере, но которая почти не пригодилась для его пациентов, часто уклонявшихся от этой лечебной процедуры. Он тщательно вымылся, подстриг ногти, долго брился. Не раз, повинуясь необходимости — когда он служил в армии или во время странствий, а в других случаях, чтобы лучше замаскироваться или хотя бы никого не удивлять нарушением принятой моды, — он отпускал бороду, но всегда предпочитал чисто брить лицо. Вода и пар напомнили ему баню, которая с большими церемониями была приготовлена для него во Фрешё после его путешествия к лапландцам. Сигне Ульфсдаттер, по обычаю женщин своей страны, сама ему прислуживала. Угождая ему как служанка, она сохраняла достоинство королевы. Он мысленно представил себе большую, с медным ободом, лохань и узор вышитых полотенец.
На другой день его арестовали. Сиприан, чтобы избежать пыток, признался во всем, в чем его обвиняли, и еще во многом другом. Вследствие этого постановлено было взять под стражу Пьера де Амера, который находился об эту пору в Ауденарде. Что до Зенона, то показания монашка могли стоить ему жизни: по его словам, лекарь с самого начала был наперсником и сообщником Ангелов. Это он якобы дал Флориану колдовское зелье, чтобы тот приворожил Иделетту к Сиприану а позднее предлагал снадобья, чтобы вытравить плод. Обвиняемый измыслил, будто между ним и врачом существовали противоестественные сношения. Позднее у Зенона было время обдумать все эти обвинения, которые утверждали как раз обратное тому, что было на самом деле; проще всего было предположить, что потерявший голову монашек пытался оправдаться, очернив другого; а может быть, желая добиться от Себастьяна Теуса помощи и ласк, он со временем вообразил, будто достиг цели. В конце концов, всегда попадаешься в ловушку, так не все ли равно — в эту или в какую-нибудь другую.
Так или иначе, Зенон был наготове. При аресте он не оказал никакого сопротивления. Доставленный в судебную канцелярию, он поразил всех, назвав свое подлинное имя.
Non e vilta ne da vilta procede
S'alcun, per evitar piu crudel sorte,
Odia la propria vita e cerca morte...
Meglio e morir all'anima gentile
Che supportar inevitabil danno
Che lo farria cambiar animo e stile.
Quanti ha la morte gia tratti d'affanno!
Ma molt ch'hanno il chiamar morte a vile
Quanto talor sia dolce ancor non sanno.
Guiliano Medici [38]
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТВ городской тюрьме он провел только одну ночь. На другой же день его перевезли, оказав ему, таким образом, известный почет, в комнату, выходившую во двор прежней судебной канцелярии; она была оснащена решетками и крепкими запорами, но при этом обеспечена почти всеми удобствами, на какие может притязать именитый узник. Когда-то здесь содержался городской советник, обвиненный в лихоимстве, а еще раньше — знатный дворянин, за золото предавшийся французам; лучше места заключения нельзя было и желать. Впрочем, за одну ночь, проведенную в камере, Зенон успел набраться паразитов, от которых ему не скоро удалось избавиться. К его удивлению, ему разрешили получить из дому белье, а через несколько дней вернули даже чернильницу. Однако в книгах отказали. Вскоре ему позволили ежедневно совершать прогулку по двору, то подмерзшему, то слякотному, в сопровождении забавного малого, приставленного к нему тюремщиком. Тем не менее Зенона не покидал страх — он боялся пытки. Мысль о том, что люди, получающие за это плату, обдуманно истязают себе подобных, всегда возмущала человека, ремеслом которого было лечить. С давних пор он пытался закалить себя для того, чтобы перенести — не боль, сама по себе она была не мучительней той, что терпит раненый под ножом хирурга, — но ужас от сознания, что ее причиняют с умыслом. Понемногу он примирился с мыслью, что ему страшно. Если наступит день, когда он будет стонать, кричать или облыжно обвинит кого-нибудь, как это сделал Сиприан, то виновны в этом будут те, кто умеет вывихнуть человеческую душу. Однако мук, которых он так боялся, ему испытать не пришлось. Как видно, в дело вмешались могущественные покровители. И однако, страх дыбы до самого конца таился где-то в глубине его души, и каждый раз, когда открывалась дверь камеры, он с трудом подавлял дрожь. Несколько лет тому назад, приехав в Брюгге, Зенон полагал, что воспоминания о нем канули в безвестность и в забвение. На этом он и основывал свою сомнительную надежду — уйти от опасности. Но, должно быть, его призрак продолжал существовать в закоулках людской памяти и теперь в связи с разыгравшимся скандалом выступил на свет, оказавшись куда более осязаемым, нежели человек, мимо которого брюггцы столько лет проходили с совершенным равнодушием. Смутные толки сгустились вдруг, сплавившись в одно с лубочными образами чародея, богоотступника, мошенника, иноземного лазутчика, которые всегда и повсюду роятся в воображении невежд.