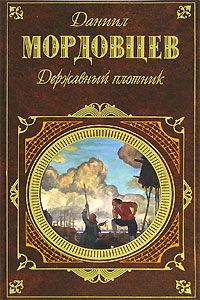Женщина эта была — Марфа Борецкая или Марфа-посадница. «Посадниками» и «посадницами» называли в Новгороде не только настоящих, действительных посадников и их жен, но и тех, которые когда-либо были на посаде — равно и жены их всю жизнь назывались посадницами.
— Дерзай, чадо! — уже в царских вратах обратился священник к нищему.
Слепец, продолжая посохом ощупывать пол, поднялся на амвон и, сделав перед царскими вратами три земных поклона, вошел в алтарь и остановился у престола.
— Дерзай, раб Божий Тихиче! — продолжал священник. — Ныне престолу Бога жива предстоиши.
Слепец еще перекрестился. Рука его дрожала.
— Простри руку твою, — подсказывал священник.
Слепой протянул руку. Глаза всех находившихся в соборе напряженно следили за ним. Глаза же Борецкой, казалось, пожирали дрожащую его руку.
Рука эта дотронулась до одного блюда, покрытого тафтой, — до правого. Разнородные ощущения прошли по лицам присутствовавших в церкви.
— Вознеси горе жребий сей, да узрят стоящий зде, — распоряжался священник.
Нищий поднял первое блюдо над головой. К нему подошел соборный протодиакон с орарем[11] на руке и, бережно взяв блюдо, возложил его себе на голову, как бы это был дискос с агнцем пасхальным[12]. Потом, вместе со священником, державшим в руках крест, он вышел из алтаря и направился к выходу из собора. За ними следовал тот седой боярин с золотою гривною на шее, который и прежде этого выходил на паперть. Это был посадник — глава «Господина Великаго Новгорода». Все глаза по-прежнему напряженно следили за движениями этих трех лиц.
Выйдя на паперть, протодиакон снял с головы блюдо и подал его посаднику. Посадник снял с блюда тафту. Под тафтою оказалась свернутая дудочкою бумажка. Глава города развернул ее и прочел написанное на ней.
— Господине Великий Новгород! — громко произнес он, поднимая вверх бумажку. — Смотрите — вот жребий преподобного Варсонофия!
— Варсонофий! Варсонофий! — прошел говор по площади и по всему «детинцу».
— Не быть владыкой Варсонофию — не на него пал перст Божий.
Все заволновалось. Говор, хотя сдержанный, но могучий, как всколыхнутое бурей море, волнами ходил по всему пространству, занятому народом.
— Отца Пимена! Пимена во владыки!
— Не надо Пимена — он латынец!
— Феофила протодьякона! Феофила!
— В Волхов Феофила! Он московской руки... холоп княженецкий!
— Пимена в прорубь! Пимен похваляется: меня-де и в Киев пошлют на ставленье... я и в Киев пойду... Латынец он... литва хохлатая.
Между тем священник, протодиакон с блюдом и посадник воротились в собор. Первые два вошли в алтарь, где у престола все еще стоял слепой Тихик.
— Паки дерзай, раб Божий Тихиче! — провозгласил священник.
Слепец вздрогнул, протянул руку и ощупал левое крайнее блюдо. При этом движении слепого яркая краска залила полные щеки Марфы-посадницы, не спускавшей глаз с престола.
И это блюдо протодиакон возложил себе на голову. Тем же порядком и священник с крестом, и протодиакон с блюдом на голове, и посадник вышли к народу.
Опять сняли тафту с блюда и раскрыли жребий.
— Господине Великий Новгород! — раздался тот же голос старого посадника. — Вот жребий преподобного отца Пимена!
— А... Не быть Пимену, латынцу, владыкой! Не вывезла кривая...
— Феофил владыка! Многая лета владыке Феофилу!
— Ай да Тиша блаженненькой! Знал, кого вымать! Исполать Тише.
Действительно, там, в храме, на престоле, остался жребий Феофила-протодиакона, и это было знамением, что Бог благословляет избрание во владыки новгородские Феофила — а Варсонофия и Пимена отверг.
Избрание владыки свершилось. Но не было, как водилось прежде, всенародного ликования... Напротив, только немногие голоса огласили стены «детинца» и соборную площадь шумными восклицаниями в честь и во здравие новому владыке. Мало того, дело кончилось тут же, у святой Софии, свалкой, во время которой у кричавших «слава» и «многая лета» были поразбиты носы до крови и перещупаны ребра. А когда толпы повалили с Софийской стороны на торговую, то «кончане» и «уличане» с Славенскаго и Плотницкаго концов да некоторые из пригорожан, большею частью «худые мужики-вечники»[13], обрушились на «житых людей» из Людина и Неревскаго концов, шибко их помяли, а некоторых с мосту прямо пошвыряли на реку, на лед. «Худые мужики-вечники» кричали искренне, хотя и не о себе, а то, что хотели от них (те же Борецкие), чтобы они — кричали... Что избранием во владыки не Пимена, а Феофила богатые люди (как будто не были таковыми сами Борецкие) готовятся продать Новгород в московскую кабалу, где «козам рога правят» и «слезам не верют»... Что зажмет Москва Новгород в «ежовы рукавицы да согнет в три погибели», как она уже согнула княжество Тверское и иные... Что можно, коли уж шибко начнет наседать, и с Литвою побрататься, чтоб она, Москва, «растак ее да переэдак — знала, что Господин Великий Новгород ни кречету, ни соколу, а тем паче татарскому улуснику — гнезда своего, святой Софии, в обиду не даст»[14].
Когда Марфа выходила из собора, окруженная сторонниками, и горстями бросала «резаны»[15], «куны» и «мордки» в толпы ее почитателей, «мужиков-вечников», лицо ее вспыхивало багровыми пятнами, а глаза метали искры. Народ провожал ее криками радости, а у нее сердце щемило досадой.
Как бы то ни было, но проглотила она обиду судьбы — и из собора же пригласила и высшее духовенство, и посадника, и тысяцкого, и других знатных людей к себе на пир, чтобы духовное торжество завершить приличным случаю плотским радованием.
Вместе с прочими Марфа пригласила на пир и слепого нищего, блаженного Тихика, и, невзирая на его лохмотья и нищенские сумы, болтавшиеся на нем, посадила его на почетное место.
В числе ее гостей был один, привлекавший к себе общее внимание. Это был невысокенький, сухенький старичок с уже льняной бородою и тем более необыкновенно в его годы живыми глазами. Но одет он был в грубое монашеское одеяние, и именно что — монахом, человеком не от мира сего, оставался он среди шумных гостей: нездешняя, за пределами видимого, глядела в молодых глазах его какая-то особенная мысль...
Хотя все вокруг него — говорило, улыбалось, кланялось; возглашая и из Священного Писания, и, целыми цитатами, — из пророка Исаии[16], из «Слова» Даниила Заточника[17] и из «Вопросов» Кирика[18] — льстило радушной хозяйке: все вокруг говорили о славе «Господина Великаго Новгорода», о его управлении, о разных «пятинах» новгородской земли[19], о торговле с амбурскими и аглицкими немцами[20], о том, что у Спаса на Хутыни сами собой звонили колокола, а на Федоровой улице с ветвей малых топольцев капали слезы... Но этот гость, казалось, не принимал ни в чем участия и молчал, тихо перебирая четки.
Этот молчаливый старичок был знаменитый подвижник Соловецкой обители — преподобный Зосима[21]. Печать необыкновенно аскетической энергии лежит на всей жизни этого необыкновенного человека. Родившись в пределах вольной новгородской земли, он еще с юных лет почувствовал в себе недовольство той жизнью — жизнью мелочных целей и желаний, которая окружала его. Его пламенная душа искала подвигов, жаждала идеала — и этот идеал воплотился у него в отшельничестве, в борьбе с дьяволом, который, казалось ему, господствовал над миром. Глубоко поэтический, он любил природу — любил слушать «говор древесных листов», чувствовать «трав прозябанье», прислушиваться к лепетанью горного ручья, к прибоям сердитых волн родного озера — Ладожского, которое в бурю клокотало и пенилось в скалах Валаама. Только с природой он чувствовал свою духовную связь, только среди безмолвной, но для него говорливой природы он любил — любил эту недосягаемую даль синего неба, эти летучие облака, суровую зелень северного леса — и молился, стараясь забиться подальше от людей. Сначала он молился и «трудился» на Валааме, но этот труд показался ему ничтожным; он искал более суровых подвигов и, прослышав, что отшельники Савватий[22] и Герман нашли недоступный для людей остров где-то у полуночного моря, перебрался и сам туда. Это было в 1430 году. На этом далеком острове они и основали христианскую обитель, самую северную в мире и самую суровую. Кругом небо да море — и то и другое без конца-краю...
Савватий скоро умер, но не в своем мрачном уединении, а вдали от острова, на Ваге. Остались на острове только Герман да Зосима. Никто в Новгороде не хотел верить, что люди могут жить в такой далекой и суровой стране, а между тем слава отшельников росла, имя Зосимы разносилось по всем концам новгородской земли. Зосима перенес мощи Савватия с Ваги на остров, и толпы поклонников из далеких мест потянулись к новой святыне, на неведомый «оток моря», где, по слухам, «чудище неизглаголанно, хотяще потопити остров и вся сущая на нем», и только молитвами преподобнаго Зосимы исчезал под водою «оный зверь гороподобный».