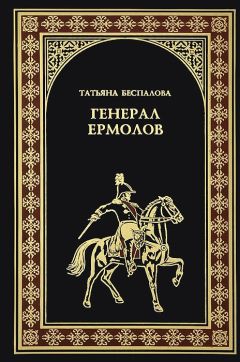— Ведите казака на гауптвахту, — приказал Мадатов.
К Фёдору подскочил бойкий адъютант.
— Разоружайся, паршивец, — он собственноручно отстегнул от пояса ножны Волчка и Митрофании, отобрал оба пистолета и кинжал. Спросил с сомнением: — Не запрятал ли чего в голенища, а?
— Голенища пусты, — равнодушно ответил Фёдор.
— Пусть снимет сапоги, — холодно приказал Мадатов, и Фёдора разули.
— Прикажете посадить его в ту же клетку, рядом с лазутчицей? — спросил генерала Переверзев.
Мадатов жёг казака подозрительным взглядом. Молвил тихо:
— Берегись, если дурное задумал. Уводи его, Переверзев. Лично проверь замки и охрану.
Между тем возле помоста снова загремели барабаны. Йовта более не валился кулём в руки палачам, сам лез на шаткие козлы.
Удаляясь в темноту, понукаемый между лопаток жёстким кулаком Переверзева, Фёдор слышал, как с грохотом откатились из-под ног висельника козлы, как единым духом ахнула толпа на площади.
— На этот раз всё свершилось честь по чести, — усмехнулся Переверзев у него за спиной.
— Посидишь в клетке, дружок, — ворчал Михаил Петрович. — По счастью, его сиятельство счёл тебя повредившимся в уме. Ещё бы! Столько недель один, в горах, среди иноверцев! Да-а-а… Ну лезь, лезь в клетку. Переночуешь рядом со своей зазнобой, а поутру... словом, утро вечера мудренее...
С печальным скрипом затворилась решетчатая дверь, загремел замок. Фёдору так не хотелось видеть лица тюремщиков, что он прикрыл глаза.
— Не спать, — приказал Переверзев караульным. — С девкой не разговаривать. Станет приставать — колите штыком. Скоро настанет и её черёд.
Фёдор слышал, как затихли в отдалении звуки шагов капитана. Переверзев торопился вернуться к месту казни.
* * * — Эй, казак! — позвал его один из караульных. — Спишь иль помер от расстройства?
— Оставь его, Трифон, — молвил второй. — Иль не видишь — тошно ему.
— Казак, а казак! — не унимался Трифон. — Может, водицы поднести, а? Нутро охолонится — душе не так жарко будет.
Фёдор открыл глаза, огляделся. Он увидел часовых. Чадный свет каменного масла, горевшего в чугунном чане бросал кровавые отсветы на штыки их ружей, на их обветренные лица. Фёдор разглядел пленницу в соседней клетке. Аймани сжалась в комочек, привалилась боком к прутьям решётки. Какая-то добрая душа принесла ей чадру, и отважная воительница спрятала под тёмной тканью яркие косы и прекрасное лицо.
— Научи, как помочь тебе, — приступил к делу Фёдор, не обращая внимания на пристальные взгляды часовых.
Аймани молчала, и казаку на миг почудилось, будто она мертва. Часовые закурили самокрутки, устало опираясь на ружейные приклады.
— Не приставай к ней, казак. Она бешеная. И жаль её и страшно, — сказал Трифон. — Помогать ей? Да она чисто зверь лесной. Ванятка вон, просунул ей хлеба кусок, хотел милость сделать, а она его за руку — хвать. Зубы острые, как у зверюги.
— Да и зачем ей хлеб-то? — вступил в разговор второй солдатик, Ванятка. — Всё одно казнят.
Фёдор смотрел, как над крышами домишек сгущалась темнота. Прислушивался: вот жители Кетриси потянулись по домам, вот и солдаты начали расходиться, щёлкали огнива, запахло табачным дымком. Потом всё стихло. Фёдор лёг на пропахшую звериным запахом солому, притворился спящим. Слышны были лишь звуки шагов дозорных и их еле внятные разговоры.
Глубокой ночью явился сержант. Спросил устало:
— Не спите, ребята? Ну добро... А что пленница?
— Не шевелится.
— А казак?
— Да рыпался всё, её звал-величал. А сейчас тож затих.
— Ну добро... Как утро настанет, девку вздёргивать будут. Ныне начальство устало сильно. А вы бдите старательно, не вздумайте спать!
— Ты скажи, Леонтьевич, как Йовта-то, помер?
— Как же ему не помереть — помер, конечно.
— А то он баял всякие сказки, будто бессмертием наделён...
— Враки. Помер, хотя и не сразу. Его высокородие сами, лично удостоверились. Точно помер.
— Неужто и впрямь дважды из петли выскальзывал?
— Выскальзывал, но не сам. Казак энтот вот его срезал. Вот беда-то! Помрачился рассудок у парня. Сам здоров, а умишком тронулся. Говорят, будто лучшего друга ныне схоронил. Вот с горя и того...
— Не может быть того. Казаки, они военные люди, жестокие. Горе-беца им нипочём. Мож его опоили зельем?
— Эх и мне бы, братцы, хоть какого-никакого зелья сейчас! Такого страху и ужасу натерпелися мы! — вздохнул сержант.
— Какого ужаса, Леонтьевич? Сызнова Йовта из петли выпрыгнул?
— Не-е-е, не так было. Как казака увели и снова из-под Йовты козлы выбили, а он, поганец, висит, дёргается, хрипит, но не умирает. Пришлось Фильке с Прохором на ногах да на плечах его виснуть. И то не сразу помогло. Потом, когда уж шея хрустнула, дёргаться и хрипеть перестал. Так умаялись, что начальство порешило девку пока не вздёргивать, а утра дождаться. Но вы не спите! Смотрите в оба! Всякое приключиться может!
* * *Ночью Фёдора снова охватило странное оцепенение, словно его, как преступного Йовту, сковали кандалами, скрутили-спеленали тело, опоили дурманящим снадобьем. Он мог слышать, но слышал лишь ночные звуки разорённого войной аула: невнятный плач и причитания, стук топора, тревожное блеянье овец, звуки неторопливых шагов часовых, их тихие голоса. Он лежал посредине клетки, широко раскинув в стороны руки. Неотрывно смотрел он в ясное ночное небо, усеянное искорками созвездий. Млечный Путь манил его и казалось, что уж поставил он яловый сапог на звёздную дорогу, уж натянул узду, и преданный Соколик доверчиво следует за ним. Услышал он и странное, сладостное звучание небесных светил, похожее на свист заревой птахи или на плеск каспийского прибоя в тихую погоду, или на невнятный шелест майского дождя в молодой листве. Он слышал щебет сойки и тревожный лай лисицы. Временами ему чудилось, будто огромная хищная птица машет над ним пропахшими свежей кровью крылами. Он видел вьющиеся по ветру рыжие волосы Аймани. Будто расплела она косы, нарядилась в голубое, расшитое золотом платье, взяла в руки бубен. Ах, как она плясала! Каблучки её алых туфелек выводили рваный ритм, ударяя в дощатый пол звериной клетки. Он видел, как развевались в бледных лучах рассветного светила её золотые пряди, как поднимался колоколом подол её синего платья, обнажая хрупкие лодыжки. Он слышал бряцанье золотых браслетов на её запястьях и звон подвесок на её ожерелье. Ритм танца то замедлялся, то вновь возрастал. Монотонные звуки бубна сопровождали тихое пение. Голос Аймани, низкий и пронзительный, подобно всепроникающему полуденному зною, отнимал остатки сил, завораживал, погружал в вязкую негу, усыплял.
Аймани так и не заговорила с ним, а у него не достало сил снова звать её.
* * *На восходе, когда отпели петухи и пастух погнал коров на пастбище, казак попытался освободиться из тесных объятий странной дрёмы. Он повернулся набок. В серых сумерках оба, и Трифон, и Ванятка, казались крепко спящими. Оба лежали в одинаковых позах, на спине, широко разбросав в стороны руки. Тёмный силуэт в соседней клетке изменил своё положение. Похоже, и воительница прилегла. Спит? Фёдор попытался сесть, затем пополз. С немалым трудом, с головы до ног покрытый испариной, он уцепился ослабевшими руками за прутья решётки. Вот она, Аймани, рядом, совсем близко. Кажется, протяни руку — и сможешь дотронуться. Ан нет! Прутья не дают дотянуться.
«Как же ты легла так, милая? Или не онемели твои ноженьки, а ручки-то, ручки под себя подсунула! Болит, видать, избитое-израненное тельце. И жёстко лежать тебе на загаженной диким зверем соломе. И сама-то ты, как дикий зверёк, на верную смерть сородичами покинутый», — так думал Фёдор, превозмогая странную дурноту.
— Эй, парень! Как там тебя? Трифон? Иван? Поди-тка ближе, что скажу, эй! — шёпотом окликнул Фёдор. Но часовые не отзывались. В серых сумерках казак ясно видел их тела, перечёркнутые крест-накрест ремнями портупей.
— Эй, деревенщина! — позвал Фёдор в полный голос. — Если уж надумали спать на посту, так спите стоя, не то сержант осерчает и ко мне в клетку запрет!..
Солдаты не отзывались, Аймани не шелохнулась. Превозмогая слабость, Фёдор подобрался к решетчатой двери клетки. Тяжёлый замок висел на положенном ему месте и был заперт. Неподалёку, за княжеским домом бряцали колокольчики на шеях коров, да лениво взлаивали пастушьи псы. Фёдор, совершенно обессиленный, сполз на вонючую солому и провалился в сон.
* * * — Нешто перепились, ваше высокородие?
— Ты у меня об этом спрашиваешь, паршивец?