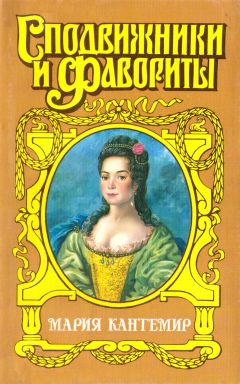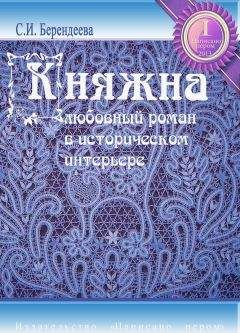Пётр не ошибся...
В начале семнадцатого года Пётр Андреевич отправился в Вену, имея на руках царскую грамоту о выдаче царевича.
Венцы тем временем переправили в величайшей тайне Алексея в Неаполь — уж там-то, думалось венскому двору, никто не узнает о местонахождении наследника русского престола.
И каково же было изумление Карла VI, когда в Вене появился Толстой и, добившись аудиенции у кесаря, вручил ему собственноручное письмо Петра, в котором не только было выражено удивление по поводу того, что царевич содержится в венских владениях, но даже названы точные координаты перемещения Алексея по венским владениям — сперва крепость Эренберг, а теперь Неаполь.
В письме царь подчёркнуто заявил, что один из офицеров, а именно Румянцев, собственными глазами видел, как царевича перевозили в Неаполь.
Трёх офицеров под командой Румянцева Пётр послал в Вену, чтобы выкрасть Алексея, если будет возможно, но крепость Эренберг представляла из себя неприступный бастион, и Румянцев ограничился лишь наблюдением.
Зато теперь царь точно знал, что Алексей содержится в Неаполе, и потому известил Карла, что послал в его столицу иностранных дел тайного советника Толстого, чтобы «и письменно, и изустно волю нашу и отеческое увещание сыну оному объявить», и пусть венский двор немедленно отпустит царевича с ним в Россию.
В письме были и туманные, правда, но достаточно сильные угрозы: если же венский двор не выполнит царское требование, «и против того свои меры принуждены брать будем».
А уж если Карл признает, что царевич находится в венских владениях, но откажется его выдать, потому как отдался Алексей под протекцию кесаря, то никому не дано судить отношения отца с сыном, тем более что Пётр готов простить ему все прегрешения.
Растерянный Карл после такого письма и приёма Толстого просил дать ему время на размышление.
Пётр Андреевич на следующий же день отправился к тёще Алексея — герцогине Вольфенбюттельской. Мать умершей жены царевича поначалу заявила, что знать ничего ни о чём не знает, но потом, под влиянием убедительных доказательств Толстого, стала вести себя тише, а под конец и вовсе обещала полное содействие возвращению Алексея.
В ужасе и изумлении собрал Карл совещание своих министров, чтобы выработать ответ Петру.
Дескать, сам принц просил предоставить ему надёжное и безопасное убежище, чтобы «не попасть в неприятельские руки», и принимали его в Вене как русского принца, а не как арестанта, хоть и содержали в тюрьме Эренберг ради его же безопасности, но посланец царя может рассчитывать на личную встречу с Алексеем, хотя и не может австрийский император выдать Алексея без его личного согласия.
Угроза вторжения русских войск в Силезию и Богемию и пребывание их там было слишком очевидным, чтобы и Карл, и его министры не согласились с личной встречей Толстого с Алексеем.
Несколько раз ещё бывал. Толстой и у тёщи Алексея, даже получил от неё письмо, в котором герцогиня уговаривала царевича помириться с отцом.
Неапольский вице-король граф Даун через срочного курьера получил приказание всячески содействовать успеху операции Толстого.
Время шло, уже и лето проходило, когда Толстой оказался наконец в Неаполе и свиделся с царевичем.
Алексей никогда не отличался особенной отвагой, а тут и вовсе онемел от страха: он-то полагал, что отец не знает, где он, и потому считал необходимым терпеть муки секретного жития вроде арестанта.
Но оказалось, что Петру всё известно, а уж гвардейского капитана, прибывшего вместе с Толстым, царевич воспринял как палача, необходимого, чтобы лишить его головы.
Письмо отца и вовсе отняло у Алексея всякую энергию.
«Мой сын! Понеже всем известно есть, какое непослушание ты и презрение воли моей делал и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему. Но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом, при прощании со мною потом что учинил? Ушёл и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию междо наших детей, но ниже междо нарочитых подданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил!
Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чём тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадёживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь к тебе покажу, ежели воли моей послушаешься и возвратишься.
Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от Бога властию проклинаю тебя вечно. А яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чём Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я всё не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться — что б хотел, то б сделал...»
Прочитав послание отца, Алексей словно сделался немым и глухим. Его изредка сотрясала невольная дрожь, будто только теперь понял он, как длинна рука его отца и государя, что он из-под земли достанет непокорного сына, и призрачная надежда на заступу австрийского императора становилась всё более зыбкой.
Не отец он ему, просто шурин, дальний родственник, что ему до забот и мыслей Алексея!
Толстой ласково сказал царевичу:
— Готов твой родитель забыть твою вину, коли повинуешься, да и голос крови говорит в нём — его кровь в тебе течёт, его плоть тебе дарована от неба.
Но слова Толстого как будто падали в пустоту, — Алексей лихорадочно соображал, что воспоследует, коли он не подчинится желанию отца.
Проклятие — это ладно, это он переживёт, а вот если силой потребует отдать сына, устоит ли Карл против всемогущего отца, героя Полтавской баталии?
Слова Толстого падали и падали в пустоту — словно бы и слышал их царевич, и словно не было здесь ни Толстого, ни гвардейского капитана.
Очнулся он уже лишь тогда, когда стал собираться в обратный путь Пётр Андреевич, и с трудом выдавил из себя:
— Теперь ничего не могу объявить, потому что надобно мыслить о том гораздо...
И несколько раз, когда Толстой являлся к царевичу, всё время повторял он одно и то же:
— Надобно мыслить гораздо...
Даже Пётр Андреевич отчаялся уже выполнить царское поручение:
«Сколько можем, государь, видеть из слов его, многими разговорами он только время продолжает, а ехать в отечество не хочет, и не думаем, чтобы без крайнего принуждения на то согласился...»
И Пётр Андреевич решился на крайнее принуждение. Сначала надо было дать понять царевичу, что протекция его ненадёжна, что Карл не пойдёт ни на какие крайние меры против русского царя.
Подкупил всех, с кем только общался Алексей, и прежде всего секретаря графа Дауна, который виделся с Алексеем едва ли не каждый день.
Словно бы мимоходом, вскользь, сказал он как-то царевичу, что слишком обременён заботами австрийский император, потому как война с турками, да и Война за испанское наследство всё ещё продолжаются, а вступать в третий фронт — борьбу с Россией из-за царевича — он крайне не желает.
А тут ещё и Даун высказал Алексею намерение отобрать у него девку Ефросинью, якобы из-за аморальности этой связи.
Конечно же, не поскупился Толстой на «дачу» Дауну. И тот тоже мимоходом объявил Алексею о позиции императора.
И уж самым сильным средством избрал Пётр Андреевич свою выдумку: будто не сегодня-завтра появится в Неаполе отец, да не один, а с войсками, чтобы силой отобрать сына у кесаря.
Алексей пришёл в такое замешательство, что сам просил Толстого приехать к нему, показать письмо царя с намерением обложить Неаполь — он готов был поверить в эту выдумку. Словно зверь, обложенный со всех сторон, не знал Алексей, в какую сторону кинуться.
Толстой не приехал по записке Алексея, и удручённый царевич впал в такое смятение и волнение, что едва через несколько дней появился Пётр Андреевич у царевича, как тот объявил ему долгожданные слова.
Даже австрийскому императору написал Алексей, что «резолюцию взял ехать в Вену и за превеликую милость Вашего Величества, когда сподоблюся видеть, персонально благодарить и о некоторых нуждах своих просить и по оном, с воли Вашего Величества, возвратиться по своя к отцу своему, государю...»
Составил он и письмо к отцу:
«Письмо твоё, государь, милостивейшее чрез господ Толстого и Румянцева получил, из которого, также изустного, мне от них милостивое от тебя, государь, всякие милости мне, недостойному в сём моём своевольном отъезде, будет, буде я возвращуся, прощение. И, наделся на милостивое обещание Ваше, полагаю себя в волю Вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном Алексей».