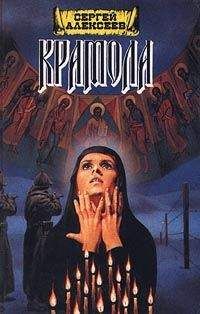Ковшов придвинулся ближе к Андрею, сказал тихо, чтобы не слышали красноармейцы:
— А без лыж они не ходоки. Тогда и нам хана. Очухается Олиферов — догонит в два счета. Моя рота против двух полков не устоит. И если он начнет карать!.. Налегке уходить надо.
Самое страшное было то, что он не изворачивался и не трусил, а говорил правду. Пленные свяжут по рукам и ногам, по пояс в снегу далеко не уйдешь…
Ротный приблизился к проруби, оттолкнул бойца и, припав на живот, долго, по-конски, цедил темную ледяную воду.
Андрей тоже почувствовал жажду, ссохлись и зашуршали губы. Он лег у проруби, в том месте, где пил Ковшов, сделал несколько глотков дышащей живой воды и заглянул вглубь. Снарядная воронка напоминала человеческий глаз, и черный зрачок его был бездонным и завораживающим. Охвостья белой поземки, касаясь воды, мгновенно исчезали в ней, и чудилось, будто непроглядная пучина глаза засасывает в себя все, что только может видеть.
В темноту проруби канул черный пушечный ствол, затем один за одним исчезли светло-золотистые снаряды. Туда же полетели мешки с мукой и солью, головки сахара, и лишь когда развязали и высыпали рогожные кули с кружками мороженого молока, глаз воронки слегка прикрылся белым, но нутро его, просвечиваясь, оставалось непроницаемым, дегтярно-черным.
— Добра-то сколь, добра! — стонали мужики из таежной деревни.
На берегу вдруг запылало множество костров: бойцы зажгли чумы…
Андрей встал с наледи и подошел к Ковшову. Ротный глядел спокойно, и лишь краснота в глазах да опущенные брови выдавали в нем бычье упрямство.
— Отпусти их, — вдруг сказал Ковшов.
— Их отпустить? — возмутился Андрей. Но, не готовый к этой мысли, замолчал, смерил ротного взглядом и, встав на лыжи, пошел к стану. «Отпустить! — злясь, повторял он. — Нашел кого отпускать!»
Пленные жарили на огне оленину и ели: дымились паром горячие руки, куски подгорелого мяса, жующие рты.
Они тоже готовились в дорогу, набирались тепла и силы, набивали утробы. Андрей прошел мимо, но успел заметить настороженные, следящие взгляды. Пленные ждали и, возможно, подозревали, что именно сейчас решается их участь.
Пойти и спрятаться, чтобы побыть одному, стало некуда. Чумы горели с треском, дымились, и по всему стану пахло горелым мясом и шерстью. Запах этот будоражил воспоминания, обжигал кровь в жилах. Единственным укрытием на берегу канала оставался олений столп. Андрей зашел к нему с подветренной стороны и встал, словно у обелиска. Дерябко ходил за ним как хвост.
И вдруг стало спокойно. Улеглись лихорадочные мысли, исчезло зудящее желание немедленно куда‑то бежать, что-то делать. Новые думы разгорелись постепенно и ровно, набирая жар и свет, словно костер в тихую ночь.
— Ковшова ко мне! — приказал Андрей.
Дерябко встал на лыжи и, попыхивая самокруткой, пошел на лед канала. Андрей достал из нагрудного кармана сложенный вчетверо чистый лист бумаги и карандаш. Половинку оторвал и спрятал обратно в карман, а на второй половинке стал писать, приспособив ее к планшетке.
Ковшов пришел, когда Андрей закончил писать.
— Через полчаса рота должна стоять в походном порядке, — приказал Березин.
— Ясно, — буркнул ротный.
— Обеспечишь прикрытие, потом снимешь дозор, — Андрей помолчал. — А пленных в расход! Сейчас же! Срочно! — Он поискал глазами Дерябко, обнаружил его рядом с собой. — Готовь пулемет! — процедил сквозь зубы.
Ковшов набычился, глянул в землю.
— Андрей, не марай рук.
— Зачитаешь приговор, — Березин подал ему бумагу. — Там все сказано.
— Я? — спросил ротный. — Мне?!
— Тебе.
Ковшов какое-то время смотрел на маленький листок, трепыхавшийся в руке Андрея, затем отвел свои руки назад, мотнул головой.
— Это приказ! — крикнул Андрей. — Хватит играть в «Стеньку Разина»! — И, отвернувшись в сторону, добавил, понизив голос: — Я не могу простить… Не хочу… Они людей заживо жгли. Не прощу. Не имею права.
— А ты кто, господь бог, что ли? — с угрозой и вызовом спросил ротный. — Или верховный судья? Зачем их стрелять? Они безоружные!
Андрей схватил его за ремни портупеи, притянул к себе.
— А ты что, не стрелял в безоружных? Не стрелял?!
— Стрелял, — признался Ковшов. — Но больше рука не подымается… Не могу. Я человек, Андрей, и не хочу карать, хватит. Миловать пора. Если всем карать — кто миловать будет? Мы же так-то весь народ изведем, под корень…
— Вон как ты заговорил! — Андрей расстегнул, раздергал воротник полушубка. — А ты помнишь «эшелон смерти»? Головни в гробах помнишь?!
— Я все помню, Андрей, — вдруг заторопился Ковшов. — Но ты послушай меня… Давно хотел сказать, послушай… Они ж комиссаров пожгли, краскомов… А мы ведь знаем, на что идем. Знаем! Дак зачем же вот этих-то в расход? Ведь не они же жгли! Другие! За что же их-то?.. Если нас, — он постучал кулаком в грудь, — на огонь поведут — мы терпеть должны. Терпеть. Андрей! А то месть получается! Вы наших девять, а мы ваших сорок! Мы ведь на себе крест поставили, когда за народное дело воевать пошли. Погибнем, дак чего? Вроде как уже вне закона. Я так думаю. Чего же мы за свои жизни убивать будем? Давай помилуем, а?
— Они же враги народа! — возмутился Андрей. — Они же не успокоятся! Вот приговор! — он подал бумагу. — Выполняй приказ!
Ковшов глянул на командира, на его протянутую руку, помотал головой и снял шапку.
— Тогда все, — сказал он. — Тогда я отвоевался.
Бросил шапку на снег, начал стягивать с себя мерзлые, гремящие ремни. Снял, швырнул все к ногам Андрея.
— Не могу я больше. Не могу. Вот уж и животина друг дружку давит…
— Это дезертирство! — отрезал Андрей.
— Не-е, — Ковшов расстегнул забрызганный водой и обмерзший полушубок, вздохнул свободно. — Сам пришел, сам и уйду…
Рука Андрея потянулась к кобуре. Ковшов не дрогнул, лишь посмотрел на револьвер и сказал глухо:
— Не стреляй, Андрей. Не бери грех на душу.
И стал раздеваться. Не спеша снял полушубок, оленью безрукавку; склонившись, содрал гимнастерку. Оставшись в нижнем белье, босой, он отступил от темной кучи одежды, сказал негромко:
— Не обессудь уж. Угорел я, спасу нет.
И пошел с кручи, проваливаясь в снег.
— Ковшов! — крикнул Андрей. Рука подняла револьвер. Белая спина была вровень с мушкой. — Назад, Ковшов! — скулы сводило от напряжения.
Ротный ступил на лед и по лыжне пошел к проруби.
Красноармейцы, суетившиеся возле нарт, распрямились и замерли. Андрей выбежал на кромку берега, опустил револьвер.
Люди у проруби машинально расступились, давая Ковшову дорогу. Тот присел на корточки, зачерпнул ладонью воды, глотнул, смочил голову и без всплеска нырнул в черный зрачок.
Ошеломленные, бойцы стояли, опустив руки. А на берегу, у костра, зашевелились, загомонили пленные, и, теснее сгрудившись, заслонили огонь.
Револьвер выпал из руки Андрея и повис на шнуре, касаясь земли. Березин, как во сне, поднял его, не отрывая глаз от проруби. И вдруг крикнул зло:
— Дерябко! К пулемету! Чего рот разинул?!
Дерябко, опомнившись, развернул пулемет, торопливыми руками заправил ленту. Толпа пленных окутывалась дымом невидимого костра.
— Дайте мне! Мне дайте! — вдруг закричал вожак примкнувших к отряду мужиков. — Я их, сволоту!.. Я их… Дайте!..
Он бежал к пулемету, орал черным ртом. За ним со страхом и с какой-то неуемной жадностью на белых лицах спешили, обгоняя друг друга, мужики.
— Огонь! — громко выдохнул Андрей…
С застругов срывалась белая поземка. Снег касался горячего пулеметного кожуха и мгновенно исчезал. Ветер трепал и тяжело всхлопывал пустую патронную ленту…
Он писал весь день и к ночи вдруг понял, что закончит намного раньше указанного срока. Он не подозревал, что можно так быстро рассказать всю свою жизнь — всего-то за считанные часы, что можно вспомнить и обдумать все, даже самое непонятное, найти причины каждого поступка, каждого поворота в судьбе. Иногда, описывая сложные ситуации своей жизни, Андрей ловил себя на мысли, будто он это уже когда-то писал и перед кем-то уже отвечал за все свои грехи и добродетели…
После полуночи Андрей вызвал надзирателя. Тот молча принял бумаги, кивнул и закрыл дверь, загремел засовом.
В холодной тюремной постели Березин так и не мог согреться. Сон пришел раньше, чем тепло. Он спал, а восход над городом отодвигал мрак, озаряя крыши домов, улицы и окна. Наконец свет достиг дна глубокого колодца тюремного двора и проник в камеру.
Андрей не слышал, как отворили дверь, и поднял от подушки голову, когда Прудкин уже стоял над ним.
— Мы ознакомились с вашим делом, — сказал тот, надев пенсне и открыв папку. — Но требуются некоторые уточнения. Почему вы не зачитали приговор пленным?
— Некогда было, — пожал плечами Андрей и сел. — Я всецело признаю свою вину.