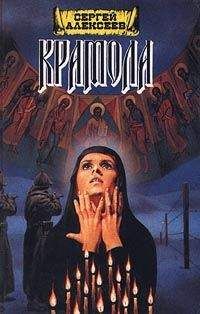Андрей не слышал, как отворили дверь, и поднял от подушки голову, когда Прудкин уже стоял над ним.
— Мы ознакомились с вашим делом, — сказал тот, надев пенсне и открыв папку. — Но требуются некоторые уточнения. Почему вы не зачитали приговор пленным?
— Некогда было, — пожал плечами Андрей и сел. — Я всецело признаю свою вину.
Последнюю фразу Прудкин словно не слышал.
— У вас не было времени, потому что пленные могли в любую секунду бежать?
— Нет, — оборвал Андрей. — Они не хотели бежать. Они предчувствовали расстрел.
— То есть как предчувствовали? Им кто-то сказал об этом?
— Не знаю. Они чуяли смерть. Как животные ее чуют. А возможно, оценили ситуацию.
— Хорошо, — согласился Прудкин. — А вы оценили ситуацию?
— Да. Я говорил, что признаю…
Прудкин перебил его, нажимая на голос:
— Тогда ответьте на такой вопрос: смогли бы вы расстрелять дезертира Ковшова, если бы он не покончил с собой?
— Смог бы…
— Надеюсь, сейчас вы поняли, что нужно было сделать с пленными? — Прудкин впервые оторвал глаза от бумаг. Снял пенсне.
— Сейчас понял.
— Что?
Андрей приподнял ноги и стал держать их на весу: каменный пол леденил ступни, деревенели пальцы, обмороженные зимой восемнадцатого.
— Я должен был достать лыжи. Или вести их так…
Прудкин захлопнул папку, спрятал пенсне в нагрудный карман.
— Ничего вы не поняли, — сказал он, толкая дверь. — А жаль.
Андрей лег на нары и натянул одеяло. Постель еще не остыла, соломенный матрац хранил тепло…
Он чуял погоню спиной. Заслоны оставались через каждые десять верст с жестоким условием сниматься только по приказу. Кроме того, он дважды, пока не добрались до таежной деревни, высылал разведки в разные стороны, однако олиферовцев не было. Вестовые падали от усталости, а он гнал их с новыми приказами. Наконец заслон, оставленный на канале, передал весть, что пешие бандиты пытаются перейти через лед и что сдержать их можно разве что час-другой. Андрей приказал отойти, хотя это было уже лишним: донесение шло более полусуток, поэтому бойцы с двумя пулеметами либо погибли возле канала, либо отошли самостоятельно. Однако другие заслоны молчали, не было вестей о передвижении банды и на следующее утро, и Андрей несколько успокоился. Зато мужики, ходившие с ротой на канал, всполошились, осознав вдруг, что утром красные уйдут, а они останутся с бандой один на один, если те снова пожалуют в деревню. Андрей посоветовал им выставить в тайге посты и оставил им три трофейных пулемета, которые мужики сами принесли с канала.
Отсюда же, из деревни он послал вестового Дерябко в полк к комиссару, чтобы тот снялся и пришел в Заморово. Все-таки если Олиферов увяжется в погоню, его можно будет встретить как полагается и разбить основные силы.
Но к концу вторых суток Андрей приказал сняться всем заслонам и догонять роту. Банда дальше своего разрушенного стана идти не рискнула.
Потом уже пошли не спеша, рано останавливались на ночлег, охотились по дороге на глухарей и тетеревов, однако красноармейцы были печальны, будто возвращались с похорон. Не слышно было смеха и разговоров, и только на привалах, рассевшись кругами возле костров, нет-нет да и запевали бойцы свою походную партизанскую песню:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны,
Андрей, вначале не обратив на это внимания, неожиданно догадался: жалеют своего ротного! Горюют по «Стеньке Разину»! И, догадавшись, стал изредка замечать на себе косые, недобрые взгляды. Ты, говорили глаза, ты сгубил нашего командира, ты его до проруби довел и головой пихнул. А как им объяснить, что он сам, сам выбрал такую долю? Еще тогда, в башкирской степи, когда вызвался расстрелять дезертира. Там аукнулось — здесь откликнулось…
На то война и гражданская, думалось Андрею, что воюют в ней не армии, воюет народ, расколовшись надвое. Воюет за новую идеологию, за новую веру, и если через сто, двести лет кто-либо из потомков, обернувшись, поглядит на эти уже как бы евангельские времена, то многого и многого не увидит. В забвение канут страсти и противоречия. Останется лишь то, что будет канонизировано и записано в Историю. Любая новая или даже обновленная идеология в первую очередь заботится о святости и непорочности своего зачатия. Она рядится в белые одежды, чтобы никто потом не смел ткнуть пальцем. А если кто и отважится ткнуть, то ему никто не поверит, ибо нельзя белое называть черным.
Но даже и при таком условии кое-что все-таки сохранится в неподвластной забвению народной памяти. Наверное, появится новая мифология, думалось Андрею далее, сложатся предания и сказки, где, как и в старых сказках, будет много волшебства, переживаний и счастливый конец, в котором торжествует добро. Их станут рассказывать устно, передавая из поколения в поколение, и пока утверждается «Новый завет», сказки эти будут считаться ересью. Однако со временем ересь, обратившись в миф, сможет спокойно сосуществовать с канонами вплоть до следующего Обновления.
Все повторяется в этом мире, все возвращается на круги своя…
До Заморова оставалось верст двадцать, когда прибежал запаленный и взмыленный Дерябко. Он промчался мимо идущих колонной красноармейцев, увидел Андрея и упал перед ним, раскинув лыжи.
Встревоженные бойцы остановились, обступили вестового, а тот закричал, захлебываясь морозным воздухом:
— Виноват я, товарищ Березин! Братцы, виноват я!
Ему натерли снегом лицо, привели в чувство. Вестовой, путаясь в словах, поведал:
— Пришел я к комиссару Лобытову, все рассказал. Как дрались, как обоз у Олиферова взяли, как пушки топили… — Дерябко запнулся. — Ну, короче, про все сказал. А он меня под арест! Измена, товарищ Березин! Теперь Лобытов в Заморово идет, чтоб нас встретить, чтоб разоружить и всех под арест! Под трибунал! Я виноват! Я сбежал, чтоб предупредить. Уходить надо, братцы! Не пойдем же мы супротив своего же полка? Супротив своих же хлопцев?
— Куда ты зовешь уходить? — Андрей встряхнул его и толкнул от себя. Дерябко тяжело завалился в снег; барахтаясь, старался убедить бойцов:
— В Заморово идти нельзя! Ждут! На дороге засады! Измена! Уйдем в лес, хлопцы? И будем колошматить беляков. Как раньше бывало!
Красноармейцы молча смотрели на командира, ждали решения.
— Нам уходить некуда, — сказал Андрей. — Уйти — значит объявить себя вне закона!
— Верно! — одобрил Клепачев, исполнявший обязанности ротного. — Неужто не сговоримся со своими-то? Ежели недоразумение такое — разберемся, ну а ежели… тоже поглядим. Лобытов — парень крепкий, изменить не мог нашему делу! Не поверю, чтоб Лобытов в изменники пошел!
— Мне не верите? — закричал Дерябко. — Ну, идите, идите! С пулеметами ждут! Чуть рыпнемся — положат нас. А славу нашу — себе!
— Отставить разговоры! — приказал Андрей и вытащил Дерябко из снега, поставил на ноги. Сказал тихо: — Запомни, Дерябко. Славу отобрать нельзя. Твоя слава навек тебе остается. Умрешь — а она все твоя. — И крикнул красноармейцам: — Домой пойдем! А с комиссаром я сам поговорю!..
Верст за десять до Заморова Андрей повернул роту и повел в обход села, чтобы выйти к нему с обратной стороны, где его не ждут. «Ишь чего ты захотел, товарищ комиссар! — мысленно усмехался Андрей. — Полк в свои руки взять! Ты и раньше причины искал… Да не выйдет! Мои люди за тобой не пойдут».
И чем ближе оставалось до села, тем сильнее вскипала злость на комиссара. «Мы там в снегах мерзли, а ты отсиделся в тепле и теперь — на готовенькое хочешь? Да еще и разоружить? И ведь наверняка комбригу доложил, паскудник!»
Он чувствовал, что это всего-навсего злость говорит в нем, что нельзя верить ей и причина лежит где-то глубже, но от обиды щемило в скулах и солоновато становилось во рту.
К Заморову подходили поздним вечером. Андрей остановил роту и выслал разведку из толковых бойцов. И пока разведка обследовала окраины села, красноармейцы сидели на снегу в напряженном молчании, курили в рукав, вздрагивали от знобящего мокрые спины холода. Разведчики вернулись через час и доложили, что полк расквартировался в Заморове, а Выселки свободны и можно хоть сейчас входить. Кроме того, они захватили и привели с собой двух часовых. Разоруженные красноармейцы стояли, потупя головы.
— Что же так полк-то охраняете? — спросил Андрей. — Спали, что ли?
— Не спали, — тянули часовые. — Да видим — свои идут…
— А приказ какой был? От Лобытова?
— Доложить, если появитесь…
Андрей отозвал часовых в сторону, спросил прямо:
— Лобытов вас против меня настраивал? Говорил, что я изменник?
— Как сказать, — мялись красноармейцы. — Митинговали вчера…
— Говорите прямо!
— Лобытов сказал, что пленных не расстреливают, — признались часовые. — Что мы не банда какая-нибудь, что мы — Красная Армия. А то нас народ любить не будет.