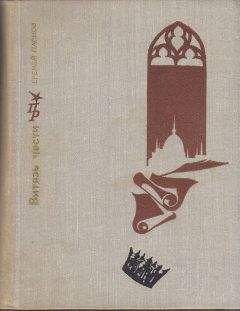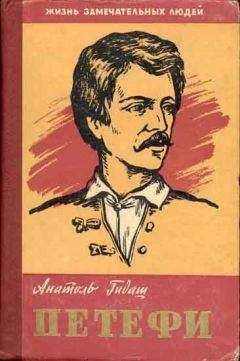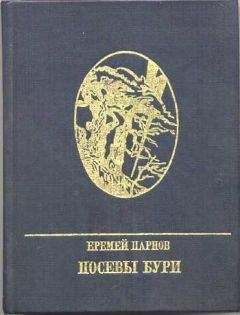Страна королей Арпадов, чьи нетленные кости в секешфехерварских курганах решено было раскопать, жаждала успокоения. Она не желала более слышать ни о Елачиче, успевшем набрать и оснастить целую армию, ни о собственных солдатах, начавших вместе с австрийцами понемногу теснить итальянских инсургентов. Вести о коварных интригах Вены набили оскомину и вызывали разве что скуку. Какие там заговоры, какие угрозы, если Хофбург молчит, а молодой представительный Стефан затаился в наместническом дворце? Пора кончать с безобразиями и горлопанством. Пусть правительство потрудится навести в стране надлежащий порядок. Довольно кипения,[66] пора перестать клокотать и придержать революцию, заняться хозяйством. Зажатое между озлобленными магнатами и разочарованной «мартовской молодежью», неокрепшее, раздираемое распрями ответственное министерство лихорадочно металось в поисках выхода. Не только Кошут, но и Баттяни, и даже Сечени отдавали себе отчет в том, что хорватский бан не ограничится односторонним объявлением независимости. Со дня на день ожидалось вторжение направляемых офицерами императорского генштаба серессонов, одержимых ненавистью кроатских жандармов. Защитить страну было некому, ибо отборные мадьярские части одерживали позорные победы в далекой Италии.
Перспектива рисовалась беспросветной. Не только помощи, но даже простого человеческого сочувствия не приходилось ждать ниоткуда. Люди, на которых непосредственно опиралось министерство, ни о чем, кроме должностей, доходных синекур и кулуарного соперничества, даже не помышляли. Революцию не нужно было специально приостанавливать. Ее порыв выдохся, едва определились кандидатуры на мало-мальски влиятельные места. Все, кто только хотел пристроиться, обрели лакомые кормушки.
Лайоша Кути, само собой, утвердили в должности секретаря премьера, Шандор Вахот получил больше, чем ожидал, сделавшись секретарем Кошута, и даже вчерашнему «мартовцу» Вуйовски правительство пожаловало влиятельный пост референта.
В этой гнилой атмосфере всеобщего недовольства и жадной погони за материальными выгодами атака Петефи на «возлюбленного короля» прозвучала как вызов. Вся благонамеренная, уставшая клокотать Венгрия ополчилась на одинокого республиканского бунтаря, на жалкого идеалиста, не пожелавшего возвыситься до понимания сложных реалий текущего момента. Приличную должность, на которую вполне мог рассчитывать человек, оказавший нации столь значительные услуги, и ту упустил бессребреник-якобинец, куснув напоследок дарящую руку.
Петефи, на которого вслед за болезнью обрушились и финансовые неурядицы, остался в полном одиночестве. Даже Мор Йокаи, увлеченный всеобщей гонкой, а также актрисой Розой Лаборфалви, отбитой у какого-то графа, испытывал растущее отчуждение к упрямому, мрачному, как стало казаться, фанатизму. К тому же оплачивать апартаменты на улице Дохань обоим стало не по карману.
По совету недалекого начальства и памятуя о давнем знакомстве, Лайош Кути навестил литературного собрата в его добровольном уединении и пришел в ужас, причем совершенно искренне, от убожества, окружавшего столь знаменитую личность. Петефи принял изящного министерского секретаря в полутемной гостиной, откуда хозяин вывез за неуплату большую часть мебели. По случаю простуды он вышел в затрапезном халате, обмотанный, после банок, теплым шарфом.
— Что с тобой? — сердобольно всплеснул руками секретарь премьера. — Ты нездоров?
— Пустяки: затяжная простуда, — недобро нахмурился поэт, стремясь поскорее выпроводить назойливого, надушенного английскими духами франта. — Что тебе?
— Мне? Ничего, — пожал плечами Кути, озирая нищенскую наготу комнаты, где кроме стола и четырех стульев уцелел один лишь запыленный фикус. — У тебя, как я вижу, затруднения? Могу ли я чем-нибудь помочь? — Он инстинктивно потянулся за бумажником. — Нация не оставит на произвол судьбы творца «Национальной песни»!
— Ты берешь на себя смелость говорить от имени нации? — Петефи презрительно усмехнулся. — Ты?!
— Я не обижаюсь на твои слова, — с терпеливой кротостью преуспевающего человека ответил Кути. — Тем более что пришел к тебе с поручением, как лицо вполне официальное.
— Ну, разумеется, как же иначе! — Петефи закивал с уничижительным пониманием. — Я весь внимание, говорите, господин секретарь ответственного кабинета.
— Я уполномочен предложить тебе должность директора академической библиотеки, — несколько напыщенно провозгласил Кути, но, уловив в своем голосе фальшь, поспешил поправиться и досказал уже совершенно буднично, без малейшей выспренности: — Жалованье вполне солидное: две тысячи форинтов в год, а обязанностей почти никаких.
— А взамен? — Петефи издевательски прищурил глаз.
— То есть? — не понял или сделал вид, что не понял, Кути.
— Я спрашиваю, что требует правительство взамен за столь роскошную синекуру?
— Ровным счетом ничего, — не без торжественности отчеканил Кути и, щелкнув золотой крышкой, взглянул на часы. — Разумеется, — промолвил он как бы вскользь, — государственная должность предполагает известную лояльность к правительству, хотя бы понимание стоящих перед ним сложностей.
— Ах, так!
— Полагаю, некоторая сдержанность пошла бы на пользу и тебе самому, — мягко заметил Кути. — Видишь, какую бурю негодования вызвал твой непродуманный призыв!
Петефи лишь поцокал в ответ языком. Он уже знал, что редакции газет и журналов завалены грудами негодующих писем. Провинциальные чиновники, адвокаты, биржевые маклеры — все, кому не лень, взялись за перо, чтобы дать отповедь зарвавшемуся писаке, осмелившемуся посягнуть на святая святых. Любопытно, что возмущенные подданные сочли за долг защитить «возлюбленного короля» в рифмованных виршах. С поразительным единодушием клеймили роялистские графоманы «низкого предателя», «отмеченного печатью позора смутьяна», «ненавистника отечества и мира» и, наконец, «желторотого изменника поэта с именем бетяра».
Славный Дебрецен, сытый, продымленный шкварками город, еще недавно рукоплескавший поэту-бетяру, выпустил даже листовку, призывавшую венгерский народ «презреть смутьяна».
«Если же он еще выступит против трона и короля, — предупреждал сей распространенный по почте засаленный меморандум, — пусть обрушится на него проклятие отечества: легче уберечься от трупного яда, чем от воздействия подстрекательских речей. Бесчестен тот, кто от имени верноподданной нации дерзает непочтительно отзываться о короле».
Никто не подстрекал специально добропорядочных граждан изводить горы бумаги. Рифмованный вздор и ритмические, в стиле позднего классицизма, инвективы рождались от чистой совести и благородного гнева. В сравнении с ураганом столь праведных чувств бледным и немощным выглядел действительно скоординированный призыв отцов иезуитов высечь поэта «бичом, сплетенным из языков пламени».
Какая скудость воображения! Только отсутствием направляющей воли провинциала, вроде энергичного Бальдура, можно было объяснить творческое убожество церковных проповедей.
Не проклятия врагов, но слепота сограждан пуще болезни подтачивала решимость поэта, угнетала силы, болезненным ядом разливалась в крови. Терзаясь собственным бессилием, он чувствовал себя единственным зрячим среди слепых, последним пророком, побитым камнями безумцев.
Революционная Франция послала в парламент Беранже.
Уставший от революции Пешт сомкнул враждебную завесу молчания вокруг своего поэта.
«Одного мне жаль, — думал он с растущей обидой. — Если уж захотелось столкнуть, почему вы не сбросили меня в пещеру ко львам? Пусть растерзали бы меня эти дикие, но благородные звери… Зачем спихнули меня сюда, где кишат гады ползучие? Укус их смертелен, нет, хуже, он отвратителен. Если я уж так грешен, то, ей-богу, ведь скорее заслужил плаху, нежели того, чтобы всякая мразь, нищие духом упражняли на мне свои грязные языки, которыми они пользовались только затем, чтобы лизать, как виляющие хвостами покорные псы, всемилостивейшие подошвы господствующего тирана…»
— Знаешь, эта должность не для меня, — сказал Петефи, очнувшись от тягостного раздумья. — Пусть лучше твое правительство вернет на родину Регули. Он подарил нам славное прошлое и достоин пожить спокойно. Я же мечтаю о будущем, мне с вами не по пути.
— Прекрасная кандидатура! Мы сегодня же пошлем вызов Анталу Регули. От имени кабинета выражаю тебе благодарность за ценный совет… Но вернемся к твоим проблемам. Если тебе не нравится библиотека, можно изыскать другую возможность. Главное, как ты понимаешь, добрая воля…
— Убирайся-ка ты вон, братец, — устало посоветовал поэт, ощутив прилив болезненного жара. — Я порядком устал от тебя.