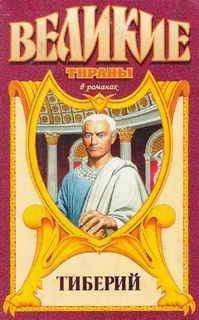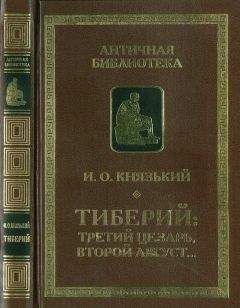Солдаты, вопреки опасениям Цецины и всех, кто находился рядом с ним, словно забыли о своих командирах. Они не приближались к северной части лагеря. Установив некоторое подобие порядка (они все-таки помнили о том, что находятся посреди германских племен, и догадались выставить усиленные караулы), солдаты занялись грабежом складов, и так как здесь же находилась военная добыча (еще не отправленная в Рим), то принялись делить и ее — согласно боевым заслугам каждого. Этот дележ и отнимал у них все время, потому что в отсутствие командиров определить, кто был в сражениях более храбрым, а кто — менее, почти невозможно. Добыча раздавалась, потом с дракой отнималась обратно, сваливалась в кучу, и снова шел спор о том, кому что полагается получить, если по-честному.
Так продолжалось около пяти дней. На пятый день с западной стороны донеслись звуки труб. И вскоре весь лагерь охватило возбуждение — караульные сообщили, что приближается со своим отрядом Германик.
Тут же была составлена депутация из представителей всех когорт и самых деятельных участников восстания. Впрочем, можно было ее и не составлять — когда депутаты вышли из ворот лагеря, все войско вышло вслед за ними, чтобы встретить своего главнокомандующего. Увидев его, гордо шагающего впереди колонны (она двигалась по всей форме, ровным строем и с поднятым знаменем), многие бунтовщики потупили глаза. Одним своим видом Германик показал им, кем они были раньше и кем стали теперь. Сам же он, не замечая никого, не отзываясь ни на приветственные возгласы, ни на вопросы, проследовал с такой же невозмутимой когортой внутрь лагеря. Толпа потянулась за ним.
В лагере его окружили со всех сторон. Оправдываясь перед Германиком, которого уважали и с которым связывали свои большие надежды, солдаты кричали ему, что его жена и сын в безопасности и пусть Германик их выслушает, и они выскажут ему все, что накипело.
Германик, однако, отказался их выслушивать, пока они не построятся вокруг трибунала, откуда он будет с ними разговаривать. Он крикнул им, что привык говорить с военными, а не с рыночной толпой, которую перед собой видит. Солдатам ничего не оставалось, как разбираться по центуриям и манипулам и выстраиваться так, как приказал Германик.
Сам он взобрался на трибунал и стоял, ожидая, когда построение будет закончено и установится тишина. Для этого понадобилось, как ни странно, совсем немного времени — начав выполнять команду, солдаты уже действовали по привычке быстро и слаженно, да к тому же им и самим хотелось побыстрее услышать, что скажет Германик.
Он начал свою речь с прославления Августа. Напомнил о величии созданного им государства и о том горе, что поразило всю Италию и все провинции. Потом перешел к военным подвигам Тиберия, о победах, которые тот одержал, командуя вот этими самыми легионами, что выстроились сейчас возле священного трибунала. И наконец, стал говорил о том, с каким единодушием народ избрал Тиберия императором, с какой готовностью ему присягнула Галлия и другие провинции тоже. «Повсюду, — сказал Германик, — царит спокойствие и единение, вся империя приветствует нового властителя и готова ему служить верно и преданно, как служила Августу». Эти слова Германика были выслушаны войском в полном молчании.
Но затем он перешел к событиям последних дней. Как они могли, спрашивал Германик, забыть о воинской дисциплине и выдержке? Как посмели поднять руку на командиров? Где находятся тела убитых центурионов? Где войсковые трибуны и старшие офицеры?
Тут как раз к трибуналу, пробравшись сквозь плотные ряды сомкнутого строя, подошла группа старших командиров во главе с Авлом Цециной. Узнав о том, что Германик в лагере и даже сумел каким-то образом управиться с солдатами, они поспешили присоединиться к своему главнокомандующему. И их появление стало как искра, упавшая в ворох сухой соломы, — солдаты вновь подняли крик и, сломав строй, окружили трибунал. Со всех сторон Германику показывались рубцы на теле, язвы, разевались рты, в которых не осталось зубов. Жалобы сыпались сотнями: на скудное жалованье, на тяжесть работ, на то, что приходится давать взятки центурионам, чтобы получить законный отпуск или освобождение по болезни. Они давно забыли, что такое покой, хорошая пища, здоровый сон в достаточном количестве. И громче всех шумели ветераны, кричавшие, что они давно переслужили свой срок, но их и не думают увольнять — на них экономят выходное пособие! Не для того они шли когда-то — многие и тридцать лет назад — в армию, чтобы, отдав отечеству все здоровье и силы, сдохнуть здесь, в германских болотах, как паршивые собаки! А началось это, кричали ветераны, как раз при Тиберии, который перестал их увольнять со службы, лишь переводил в вексилларии, давая ветеранам другое название, но и только. На них казна сберегла много денег, а что они получили после смерти Августа?
И разумеется, дошло до того, что самые отчаянные принялись вопить: «Германика в императоры! Германик — наш император!» Этот клич мгновенно подхватило все войско. «Веди нас на Рим! — кричали Германику, — Долой Тиберия!»
Такого Германик не мог вынести. Он почувствовал, что, даже только находясь рядом с этими людьми, сам становился государственным изменником. И он испортил все дело. Соскочив с трибунала, он кинулся прочь, увлекая за собой старших офицеров.
Ему не дали уйти — преградили путь. Обнажив мечи, солдаты требовали, чтобы Германик вернулся на трибунал и продолжил с ними разговор, и не просто продолжил, а пообещал, что поведет войско на Рим.
Тогда Германик сам вытащил из ножен меч и, приставив лезвие к груди, закричал, что покончит с собой, если ему и сопровождающим не дадут дорогу. Вид его был таким решительным, что большинство солдат стали вкладывать оружие в ножны и понемногу расступаться. Но тут один из зачинщиков бунта, некий Калузидий — из бывших завсегдатаев римских театров, где за мелкие деньги освистывал или награждал аплодисментами актеров по чьей-нибудь просьбе, — рассмеялся и, протягивая Германику свой меч, крикнул:
— Германик, возьми мой! У тебя не такой острый!
Все вокруг опешили от такой наглости. Бунт бунтом, но есть священные вещи, на которые посягать, а тем более глумиться над ними, не следует. На Калузидия набросились, а приближенные Германика, пользуясь возникшей заминкой, быстро увели его отсюда в северный конец лагеря. Там он увиделся с Агриппиной и сыном, удостоверившись, что они живы и здоровы.
Германик был уверен, что солдаты на некоторое время оставят их в покое — будут стараться справиться со смущением (он знал своих солдат) и раздумывать о том, что делать дальше. Проведя короткое совещание с легатом и старшими офицерами, которые наперебой советовали ему ночью вместе с женщинами и детьми покинуть лагерь и двигаться к Верхнему войску, Германик отказался от этого. Даже ради спасения Агриппины и сына он не бросит лагеря, пока не найдет способа погасить бунт своими силами, не прибегая к легионам Гая Силия. Не хватало римскому войску междоусобного сражения! Германик придумал выход, который, как ему казалось, поможет бескровно разрешить проблему.
Он составил письмо, написанное будто бы Тиберием. В письме говорилось о том, что император желает наградить своих солдат за долгую и безупречную службу и повелевает: ветеранов, прослуживших более двадцати лет, уволить из армии со всем причитающимся пособием, тех же, кто не дослужил до двадцати лет, но уже находится на службе шестнадцать лет и более — перевести в разряд вексиллариев, освободив их от всяческих работ, кроме обязанности отражать нападение врага в случае надобности. В письме также говорилось, что награда, завещанная. Августом, увеличивается вдвое и должна быть выплачена немедленно.
Подделать императорское письмо — это тоже могло выглядеть изменой, но Германик, как ни думал, ничего лучшего придумать не смог. Одному из солдат, находящемуся при штабе, было поручено потихоньку выбраться из лагеря с этим письмом и назавтра доставить его якобы из Рима. Этому вестнику нашли другую одежду, чтобы его вид вызывал поменьше подозрений.
Все же солдаты заподозрили подлог, когда на следующий день Германик зачитал им это послание с трибунала. Но доказательств того, что письмо настоящее, потребовали немедленно: раз их в этом уверяют, то пусть выполняют, что в письме сказано. Солдаты не дадут себя одурачить, они понимают, что начальству важно выиграть время.
Ничего не поделаешь — Германику пришлось брать на себя ответственность за столь важные обещания (а он ведь не знал, как отнесется к ним Тиберий, когда узнает). Но успокоить войска он хотел любой ценой, хоть бы и ценой недовольства императора. Итак, трибуны принялись увольнять ветеранов, а Германик начал думать, где ему набрать достаточно денег для обещанных двойных выплат. Он выпотрошил свою казну, войсковую казну, предназначенную для чрезвычайных нужд, собрал все личные сбережения старших офицеров — под расписки, обязуясь отдать сразу же, как только удастся съездить за настоящими деньгами в Рим. Немалую сумму пришлось занять у племени убиев, на землях которых стоял лагерь. И все равно не хватало. В лагере опять начался ропот. Особенно шумели воины Пятого и Двадцать первого легионов, которых Германик хотел поскорее отвести из лагеря на зимние квартиры. Они в один голос заявили, что не тронутся с места, пока не получат обещанного.