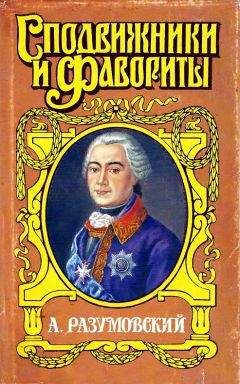— Да, но что нам-то делать? Государыня при молитве, а мы, ежели, при картишках метнем банчок?
Карты Иван Шувалов не очень любил, но отказать своему предшественнику не мог. В гостиной и устроились. Еще доброхотов набралось. Все ожидали государыню. Кто с неподписанным Указом, кто с реляцией[13], а кто и с кляузой очередной. Кляузы государыню отвлекали от разных надоедливых дел.
Ждать выходило немало времени. А скука — не тетка. Дворцовый «фараон» начал налаживаться, когда под окнами гостиной раздались крики:
— Государыня умерла!
— Умирает!..
— Из церкви ид учи!..
Церковь-то придворная, рядышком. Елизавету никто и не сопровождал. Как оказалось, ей дурно стало, она потихоньку выбралась вон… да так и упала вблизи паперти…
Не сразу хватились. А хватившись, что могли поделать? Всяк боялся к государыне подойти.
Она лежала замертво, а вокруг нее толпа собралась, высыпавшая из церкви. Какая-то женщина, из простонародья, прикрыла ее лицо сдернутым со своей головы платком…
Сбежались и придворные дамы, но только усугубили толчею. Пытались привести. Елизавету в чувство, но тщетно. Прежний лейб-медик Лесток был изгнан вместе с маркизом Шетарди — за непомерные свои интриги, новый лейб-медик и сам был болен. Не знали, к кому и обратиться.
Выбежавший Алексей Разумовский вспомнил:
— Есть тут хирург Фюзадье! Пусть пустит кровь!
Фюзадье сыскали, кровь отворили, но это не помогало.
Елизавета, кажется, маленько придыхивала, но никого не узнавала.
Иван Шувалов по-детски хныкал, караулившие во дворце гвардейцы единственное, что могли сделать, — оттеснить толпу.
— Так и будет лежать государыня на земле?.. Иван Иванович, беги за кушеткой! — распорядился Разумовский.
Иван Шувалов был рад, что хоть какое-то занятие сыскалось. Пока он с помощью слуг тащил кушетку — а мебель во дворце вся была тяжелая, — Алексей держал голову Елизаветы на своих коленях, думая: «Вот так и у помазанников Божьих жизнь кончается. Что уж нам-то?..»
— Бери, Иван Иванович!
Алексей охватил своими сильными руками весь торс Елизаветы, но Иван Шувалов не мог и с ногами управиться. Гвардейцы помогли.
— Ширмы давайте! Одеяла!
Тут маленько пришли в себя и придворные дамы, так безобразно проворонившие государыню. Кушетку огородили ширмами, прибежала главная врачевальщица, Мавра Егоровна. Она одно знала: пятки чесать!
— Ахти, Господи, матушка… На кого ты нас оставляешь?..
Алексей не на шутку взъярился:
— Чего хороните государыню?! У нее отменное здоровье! У-у, сороки непотребные… Несем во дворец. Живо!
Елизавету, при ее-то внушительной комплекции, да еще вместе с кушеткой, и двоим гренадерам было не поднять, не говоря уже об Иване Шувалове.
— Просовывайте ружья!
Гренадерам приходилось носить раненых, поняли. Три ружья да шесть человек, седьмым был Алексей, который поддерживал на ладонях голову Елизаветы. Потащили почему-то ногами вперед — как стояла кушетка, так и взяли.
— Разворачивай… олухи царя небесного!..
Сообразили, развернули. Но двери во дворце были хоть и широки, да не шире же распластанных ружей, да еще при целой ораве мужиков.
Ну, тут уж гренадеры не оплошали: побросав на пол ружья, на руках вознесли государыню в ее спальню.
Она наконец-то пришла в себя, хотя говорить не могла, так как при падении сильно прикусила язык. Но Алексея узнала, глазами, уже маленько засиневшими, указала: возьми руку. Он припал, обливаясь слезами. В ногах суетился Иван Шувалов, Мавра Егоровна копошилась, еще двое Шуваловых подоспели, общими усилиями попытались оттеснить Разумовского, но он резко, как давно уже не разговаривал, одернул даже Александра Шувалова:
— Вы не в Тайной канцелярии! Извольте уважать волю государыни!
Три дня и три ночи он не отходил от постели, и все это время Елизавета находилась между жизнью и смертью. Роковой исход казался неизбежным. А это возвещало: перемену царствования, полный переворот во внешней политике, да и среди фаворитов, восшествие на престол Петра III, душой и телом преданного Фридриху, общий переполох…
Племянничек несколько раз пробегал мимо, до неприличия с радостным лицом. Одно повторял:
— Как? Ну, как?..
Ему не решались отвечать, один только граф Алексей Разумовский остудил неурочный пыл:
— Ее императорское величество крепка здравием. Даст Бог!
Шелестела юбками Екатерина, уже заметно пополневшая, не в пример супругу, горестная. Ей-то чего радоваться? Она на сносях была, и с рождением наследника ее миссия при русском дворе заканчивалась. Петр Федорович открыто ухаживал за толстобокой фрейлиной Лизкой Воронцовой. В сильном подпитии — а когда он мало пил? — без обиняков предрекал:
— Вот моя жена! — Ладонью тыкал в грудь Лизке. — А тебя — в монастырь! — отмахивал Екатерину. — Да подальше!
Екатерина клонила голову долу, ничего не отвечала. Кроме графа Разумовского, ее пробовал утешать и канцлер Бестужев:
— Ваше высочество, воспринимайте сие как пьяные выходки. Поверьте, до этого дело не дойдет.
— Не дойдет, — подтверждал и Алексей Разумовский.
Этим людям Екатерина доверяла.
— Я и сама не допущу!
И столько было уверенности в ее голосе, что Разумовский терялся: «Или она сумасшедшая… или прозорливица невозбранная?»
Но хуже-то всех было положение Ивана Шувалова. Если Алексей Разумовский мог уповать на давность знакомства, хоть и не всегда доброго, с великим князем и наследником, то на что мог надеяться новоявленный фаворит? Глядя в его горестные глаза, Алексей, вопреки всякой логике, утешал:
— А носишко-то вешать не надо, Иван Иванович. Сказано: Бог даст!
И Бог дал здравие государыне Елизавете Петровне. Другое дело, надолго ли?..
Наступило 20 сентября 1754 года. Рано утром, чуть ли не в ночь, вбежала Елизавета:
— Будет… будет сегодня наследничек! Павел Петрович!
— А если наследница? — едва успел Алексей накинуть шлафрок.
— Баб не будет! — вскричала, быстро впадая в гнев, Елизавета. — Не слишком ли много якшаешься ты, мой друг, с великой княгиней?
— Помилуйте, — обиделся он. — Только в той мере, в какой ваше императорское величество перепоручили мне сие дело. Как обер-егермейстеру, услаждающему охотой наряду с другими и великую княгиню. Иль я не так что сделал?
Гнев у нее быстро сходил на милость:
— Да так, все так, мой друг. Но перечить-то мне зачем?
Алексей развел свои большие, красивые руки, как бы пытаясь объять располневший стан государыни. Жеста этого, прежде привычного, конечно, не докончил. Рассмеялся:
— Да если б я перечил, где б я сейчас был?..
Он подумал о Мезени, где пребывали родители императора Иоанна Антоновича, еще севернее — о Бироне, который никак не мог закончить свою жизнь, да хотя бы и о несчастной Лопухиной… Перечить! Государям! Ведь не так же глупа Елизавета, чтоб думать об этом?
Она, кажется, тоже усомнилась в своем предположении.
— Не могу я гневаться на тебя, друг нелицемерный. Кто может заменить тебя?..
Он помыслил о том, но вслух не сказал. Но Елизавета поняла.
— Оставлю я лучше тебя, а то ты опять что-нибудь умозришь! Зря я, что ли, уже имечко дала: Павел Петрович! Да будет сие!
Она вышла своей быстрой, крепкой походкой. Словно и не была еще недавно при смерти…
«Никто тебя так не пожалеет, Елизаветушка, как я, — вслед ей вздохнул Алексей. — Надо же! Загодя имечко еще неродившемуся наследнику сотворила!»
На половину первого камергера Алексея Разумовского — Иван Шувалов занимал во дворце все-таки скромный, боковой придел — с утра же и заявился канцлер Бестужев. Тоже не спалось? Тучи над ним опять сгущались, как не поплакаться пред свояком, даже в такое время не потерявшим своего могущества?
Но на этот раз канцлер плакаться не стал. Иное изрек:
— Не рано ли переполох развели во дворце? Как подъехал, гляжу: кровать громадную родильную волокут, повивальную бабку, немку фон Дершарт, под руки ведут, великий князь с радости ли, с горя ль собак по двору гоняет. А мне к тому же секретная депеша из Стокгольма… — до шепота понизил он голос. — Догадываешься, Алексей Григорьевич?.. От Сережки Салтыкова, почетной ссылкой награжденного… виновника всего этого переполоха! Спрашивает обиняком, опасаясь все-таки распечатки депеши: нет ли чего новенького, до меня касаемого? Вот, — достал из плотного конверта такой же плотный лист. — Посмотри… да и высеки огня. Безобидная депеша, а ведь при случае Александр Иванович в строку поставит.
— Чего высекать? — глянул Алексей на депешу. — Камин горит. Но не жалко ль?
— Жалеть дураков не приходится. — Бестужев сам бросил депешу вместе с конвертом в камин. — Нас-то, Алексей Григорьевич, кто пожалеет?