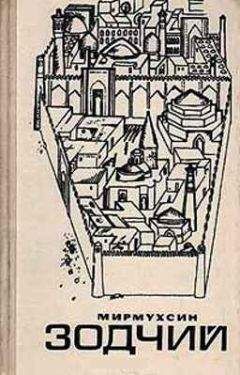— Эй, Нишапури, не лукавьте со мной!
— Да я и не лукавлю, я говорю то, что есть. Я ведь обделен судьбой. Как же, выйдете вы замуж за одноглазого! Никому я не нужен, кроме своего учителя, И как собака подохну вот на этом пороге.
— Господи, да разве дело в красоте?
— Господь как раз и обделил меня тем, что нравится девушкам, — красотой, отнял у меня счастье. И удел мой — страдания. Ну кто за меня пойдет? А эта ташкентская хоть и черная изюминка, а очень бы подошла мне…
— Вовсе она не черная изюминка, а черная жемчужинка, — возразила Бадия. — Во всей Бухаре нет девушки лучше. А уж как умна, какая озорница, — уже серьезно проговорила Бадия. — В общем, условимся так, Я поговорю с мамой, пусть отец просит ее за вас, Попытаем удачи!
Бадия степенно вышла со двора, а Заврак глядел и глядел ей вслед, словно все его надежды, вся его жизнь зависела теперь от нее одной.
В тот год в Бухаре выпало мало дождей, да и осень выдалась сухая. А уже в середине месяца акраб[49] ударил лютый мороз. Мелкий снег, выпавший в ночь, на пятницу, к утру покрыл колючими снежинками все крыши, серебристым покровом устлал обочины дорог. Резкий пронизывающий ветер без помех разгуливал по узким извилистым улочкам. Кое-как одетые, бесприютные бедняки укрывались под крышами базарных рядов и под сводами. Старики, обычно греющиеся на солнышке у калиток, дети, играющие на улицах, сидели сейчас у сандалов в домах. Базары обезлюдели, без необходимости никто не решался выходить из дома. Мороз загнал под крыши и учащихся медресе, и странников, заполняющих караван-сараи. Многие в Бухаре не пережили этот холодный месяц. Еле теплящаяся жизнь стариков отлетала, словно осенние листья с ветвей. То там, то здесь на узеньких улочках можно было видеть стоящих у калиток, подпоясанных платками людей, встречающих, по обычаю, тех, кто пришел проститься или помянуть усопшего. В народе говорили, что этот год — год змеи и поэтому умирает столько людей. Об этом же пели и странствующие дервиши — каландары в своих псалмах-песнопениях о дне Страшного суда. И в суфийских радениях также упоминалось о годе змеи — страшном, черном годе. Один лишь Минораи Калан — память о могуществе караханидов — непоколебимо вздымал в небеса свои купола в самом сердце Бухары. Ему не страшен был ни змеиный год, ни злые морозы. Горделиво и величаво возвышался он над городом, словно призывая бухарцев следовать его примеру и не сдаваться.
В один из таких холодных дней зодчий, вместе с двумя своими учениками, измерял площадь у Индийского дворца, где были вбиты колышки для строительства. По совету мастеров и господина Исфагани для нового медресе выбрали место неподалеку от махалли Деть рон, и строители, страстно любившие свой город, высказывали желание, чтобы новое медресе гармонировало с цитаделью, Минораи Калан и Джаме-мечетью. После долгих совещаний и споров наконец решено было расположить новое здание так, чтобы фасад его был обращен к солнцу, и тогда ветер с западной стороны будет его продувать. Уже в который раз зодчий измерял и прикидывал расположение здания, взбирался на соседние крыши домов, зорко всматривался в порталы и ворота Минораи Калан и цитадели. Тут же на крыше находились его измерительные приборы и линейки с нанесенными цифрами. Зодчий тщательно выверял все свои расчеты. А сойдя вниз, осматривал каменные глыбы, которые вот уже целую неделю возили с Карнабских гор на арбах, и строго приказывал Завраку и Зульфикару, чтобы глыбы эти не складывали в кучу, а выстраивали в ряд — неподалеку от будущего фундамента.
Хотя он был тепло одет, его била дрожь. Он не замечал, что у учеников посинели уши и носы. А уж напоминания Заврака о теплом сандале и вовсе пропускал мимо ушей.
Была пятница. Люди, как и положено, отдыхали от трудов праведных, навещали больных и родственников, только одни упрямый старик все гонял своих учеников по площади в махалле Деггарон и сам всюду поспевал за ними, не замечая мороза. Не замечал он и недоуменных взглядов прохожих, не видел, как Заврак и Зульфикар пританцовывают от холода на месте. Все его мысли были заняты сейчас только фундаментом здания, который должны были начать закладывать не сегодня-завтра.
— Интересно бы узнать, сколько раз вы намерены жить на этом свете? — ворчала утрами Масума-бека, видя, как зодчий, торопливо одевшись и вооружившись своими инструментами, направляется к калитке, — Сегодня же пятница, старики молятся, сидят дома да поминают бога!
— Ах ты господи, — отвечал зодчий, — ну почему у тебя вечно язык чешется?
— Да построите вы свое медресе, построите, никуда оно не денется. Осыплют вас золотом с ног до головы… Что же теперь, и правды сказать нельзя? Ну что я буду делать, если вы свалитесь где-нибудь на улице в эдакий мороз?
— Ты, видно, хочешь сказать, что я подохну на улице как собака? Забываешь, что строю я не для того, чтобы меня осыпали золотом. Глупая женщина, вот ты кто! Ты же прекрасно знаешь, что не из корысти я хлопочу, не ради богатства. О всемогущий! Зачем ты дал женщине язык? Ну зачем господь обделил женщин умом?
— Делайте как знаете, — обиделась Масума-бека. — Разве вам втолкуешь. Вы ведь и Платон и Аристотель. Все науки превзошли. Даже его святейшество Ходжа Мухаммад Порсо не хлопочет так.
— Ну и ладно. Если бы ты не настрадалась так за последнее время, дал бы я сейчас тебе черенком вот этого топорика по голове…
— Ну и идите и делайте что вам угодно, — окончательно рассердилась Масума-бека. Зря старик злится, она же желает ему добра. Не дай бог, снова прицепится к нему кабус. Ведь так легко в этот лютый мороз простудиться и заболеть, а чего ради? Вот так же, не щадя себя, трудился он и в Герате. И что же? Кто это оценил?
Масума-бека, как умела, старалась, оградить своего старика от беды, но, наткнувшись на такое упрямство, в конце концов улыбнулась и скрылась в доме. А зодчий нерешительно потоптался у калитки. Не пойти ли ему вслед за женой, не объяснить ли, для чего он хлопочй и беспокоится?
«Все равно не поймет, — решил он, — бесполезно и втолковывать». Он махнул рукой и вышел на улицу.
Ведь в махалле Деггарон его ждали ученики. По дороге вспомнились слова жены: «Сколько раз вы намерены жить на этом свете?»
«Трижды! Поняла? Трижды! Построю вот это медресе — и это будет моя вторая жизнь. А после я вновь и вновь буду возрождаться. А ты как была так и останешься глупой женщиной». Со следующего дня начались страшные морозы. Старожилы не могли припомнить точно — тридцать или более лет назад бывали такие, когда птицы замерзали на лету. Редко когда в Бухаре случались такие зимы. Люди сидели у себя дома, а Зульфикар, у которого до боли леденели ноги, вспомнил, как несколько лет назад в Герате зодчий запер его на всю ночь в подвале, где пол был полит водой. Вспомнил, и ему сразу стало теплее. Он уже не чувствовал холода и бодро следовал за своим учителем. Но сам зодчий, шагавший по открытой, заснеженной площадке, то и дело снимал с го ловы шапку, почесывал шею и вытаскивал из-за уха тростниковое перо. Зульфикар попросил его не снимать шапку на морозе, но зодчий небрежно бросил: «Да, да, верно…»— и снова снимал. Зульфикар беспокоился о нем, вспомнив, как Амир Тимур простудил голову в Даштикипчакской степи и умер. Но вот наконец они пришли во временно нанятое помещение, где их уже ждали мастера. Один из мастеров-бухарцев сказал, что не плохо было бы отложить начало работ до весны. Земля, мол, вся промерзла. Как же в таких условиях делать раствор ганча и кира? Зодчий ничего не ответил, а лишь с минуту задумчиво глядел на мастера. Заврак, испугавшись, как бы зодчий не вспылил и не наговорил лишнего, поспешил вмешаться в разговор.
— Земля промерзла всего на четыре пальца, — сказал он, — а там дальше она мягкая. А кроме того, господин распорядитель работ сообщил, что в Самарканде определили сроки начала и завершения строительства и просили господина зодчего поторопиться. Не нам сдаваться перед морозом, лучше сделаем все, что решил; господин зодчий. Глаз — пуглив, рука — отважна!
В Бухаре Зульфикар и Заврак получили звание самостоятельных мастеров — «уста». Теперь они имели право заводить собственное дело. Звание это они получили с согласия и одобрения зодчего, уста Нусрата и Исмаила Исфагани. Но ни Заврак, ни Зульфикар не собирались покидать своего учителя и решили остаться его учениками.
После прибытия в Бухару Заврак стал прибавлять к имени зодчего титул «хазрат», что означало «светлость». Будь это в его власти, он дал бы своему учителю еще более высокий титул. Своим друзьям он доверительно сообщил, что титул «ваша светлость» никак не пристал царевичам или Ходже Мухаммаду Порсо, а подходит только их зодчему — достойнейшему из людей…
Итак, зодчий продолжал совещаться с мастерами, давал пояснения, разложив чертежи на низком столике.