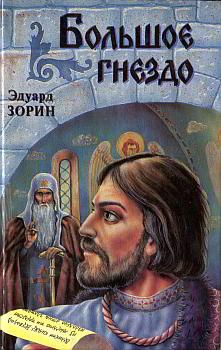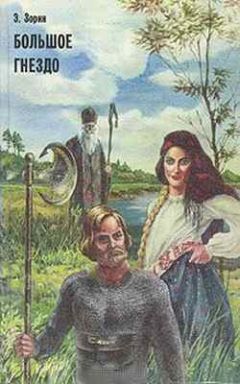Оставленный при дороге мужичок ждал их исправно, дрожа от холода и от страха под ракитовым кустом. Ошаня посадил его на своего коня.
— А сермяга? А чоботы? — пропищал мужик.
— Жаль, сермяги и чоботов твоих мы не добыли, — сказал Ошаня. — Завалялись у меня где-то дома новые лапти, сыщется и худой зипунишко…
— Дурни вы сиволапые, — ругался мужик. — Почто на срам везете? Лучше бы мне под тем кустом помереть.
Вот как ему жаль было своей сермяги и своих чоботов.
— Сам тачал чоботы, а сермягу жена мне сшила, — ворчал он. — Вернусь, что сказывать буду?
— Авось не вернешься, — успокоил жадного мужика раздосадованный Ошаня, — авось пришибут где — на этот раз до смерти…
Переяславль встретил их тишиной, только кое-где взбрехивали страдающие бессонницей старые псы.
— Пойдемте все ко мне в гости, — пригласил Веселица.
— А что, — согласились мужики, — можно и в гости. Жена-то не проводит помелом?
— Моя не проводит, — похвастался Веселица.
Отворили ворота, въехали. На дворе, у столбика, стоял привязанный конь.
— Уж не мой ли? — приглядываясь к нему, прошептал Звездан.
И точно — каурый. От радости у Звездана перехватило дыхание. Ежели каурый на дворе, то и Митяю где же быть еще, как не в избе.
— А я тебе что сказывала? — закричала Степанида Малке, разглядывая входящего в горницу Ошаню. — Что бы мой погостевать пропустил, такого отродясь не бывало…
Удивленно выпучив глаза, Ошаня взирал на жену.
— Аль видишь впервой? — кричала Степанида. — И где тебя лешие носили?
— Вот баба, — передохнув, сказал Ошаня. — И отколь в ней только зло родится? Отколь слова берутся поганые? Ну, что честишь? Аль не видишь, что не один я, а с другами?..
— Дружки твои — такие же квасники [154]. А ну, как хвачу кочергой!..
— Э-э, — попятился к двери Ошаня. Веселица, смеясь, обнял его за плечи.
— Ты, Степанида, не очень-то в чужом дому… Ошаня — мой гость, и моих гостей привечает моя хозяйка.
— Милости прошу, дорогие гостюшки, — выдвинулась из-за спины Степаниды Малка. — Проходите к столу, отдыхайте с дороги…
— Спасибо, хозяйка, — отвечали гости. — Доброе словечко в жемчуге…
— Просим милости вам от бога…
— Жить да молодеть, добреть да богатеть…
Все здоровались по чину, степенно проходили, крестясь на образа, рассаживались по лавкам.
— А Митяй где? — нетерпеливо спросил Малку Звездан. — Сказывай, куды спрятала Митяя?
— Тута я, куды меня прятать? Чай, не пряник, не съедят…
Парень вышел из-за полога, улыбаясь во все лицо. Обнял его Звездан, расцеловал в обе щеки.
— Да как же ты Веселицыну избу разыскал?
— Добрые люди подсказали.
— Мне он повстречался, — подала помягчавший голос Степанида. — Вижу, скачет парень сам не свой, конь в мыле. А наши-то только что в лес подались. Ну и напугалась я — уж не беда ли с кем стряслась?.. Хоть и дурак у меня мужик, а все жаль. Все сердце-то об нем болит… Ну, я ентово паренька и остановила. То да се — выспросила да к Малке и проводила…
— Ай да баба! — воскликнул Ошаня. — Нешто не врешь? Нешто и впрямь тебе меня жаль?
— Да как же такого беспутного не жалеть? — засмеялась Степанида.
Ошаня хрюкнул от удовольствия и потянулся к ее губам.
— Ишь ты! — оттолкнула его от себя Степанида. — Сиди, где посадили, и озоровать не смей.
Размякшие гости разноголосо подначивали Ошаню:
— Ты, Ошаня, не робей!
— Эк разошлась твоя баба!
— Со Степанидой управиться — не лодию срубить!..
Счастливо блестя глазами, Веселица отозвал Малку в сторону, велел нацедить меду.
— Да за пленником нашим пригляди, что сидит в погребе. Горбушечку сунь ему, водицы…
— Может, медку подать?
— Можно и медку. Только дверь-от не отпирай, шибко злой он…
— Ой! — вскрикнула Малка.
— Да не бойсь ты, не бойсь, — успокоил ее Веселица. — Погодь, дай-ко я сам схожу.
На дворе — тьма. Кони, пофыркивая, сбились в кучу. Черное небо густо усыпано звездами, над частоколом узеньким серпиком повис молодой месяц.
Веселица бросил коням охапку недавно накошенной травы, осторожно нащупывая ногами ступеньки, спустился в погреб. В погребе было холодно и сухо. За досками в щелях попискивали мыши, затхло пахло землей и душисто — медом. Нацедив полное ведерко, Веселица выставил его наверх, подтянувшись, выпрыгнул сам. Зачерпнув ковшик меда, подошел к дверце, прислушался: Вобей не спал, ворочался на соломе.
— Эй ты, — позвал Веселица.
— Чего тебе? — не сразу откликнулся Вобей.
— На вот, проголодался, поди…
Веселица вынул из-за пазухи хлеб, просунул в щелку. Пролез под дверью и ковшик с медом. Вобей жевал, чавкая, громко хлебал мед.
Веселица посидел перед дверью на корточках. Не дождавшись ковшика, встал, чтобы уйти.
— Погоди, — сглотнув, сказал Вобей за дверью. — Слышь-ко?
— Ну?
— Ты того… Ты меня посаднику не отдавай.
— Чегой-то?
— Не пощадит меня посадник. Сымет голову, ей-ей…
Вобей помолчал, что-то долго соображая. Веселица снова собрался уходить.
— Стой! — приник к доскам Вобей. Дышал неглубоко и часто. — Ты бы меня отпустил; слышь-ко. Тебе-то какая от моей смерти польга?.. Скажешь, сам, мол, утек. А там пущай ловят. Уйду в леса, в пустынь [155], стану жить, грехи отмаливать…
Вспомнил Веселица Мисаила, не по себе ему стало — а что, как и впрямь раскается грешник? Бог ко всем милостив.
— Врешь ты все, Вобей, — сказал он сдавленно.
— Вот те крест, не вру, — убеждал пленник, еще ближе припадая к доскам. — Нет мне пути обратно в свою ватагу. К людям пути нет. Пусти.
— А что, как сызнова выйдешь на дорогу? За жизни загубленные кто в ответе будет?
— Не выйду… Опостылело мне все. Раскаянья хочу… А посадник не даст грехи отмолить. Доброе дело свершить не даст. Умру, как вор, никто про мое раскаянье не узнает.
Веселица молчал, но и не уходил, внушая Вобею надежду. Еще горячее, еще доверительнее говорил Вобей:
— Каюсь, много совершил я злых дел, смерти лютой заслужил. Но коли открылся мне свет истинный, нешто дашь умереть, не вкусив праведной жизни? Душа у тебя добрая, глаза ясные. Как увидел я тебя, так сразу и подумал: вот оно, мое спасение, через него обрету свет истинный… Отпусти.
Нет, не прошли зря твои вечерние беседы, доверчивый и кроткий Мисаил, запали они Веселице в сердце. Другой бы раздумьями терзаться не стал, и Вобеевы слова его бы не поколебали. А Веселицыны руки уже коснулись запора и трепетные пальцы откидывали щеколду… Не торопись, Веселица, подумай еще раз: доброе ли дело творишь, не выпускаешь ли на волю темное зло?
Но говорил Мисаил: «Прости — и прощен будешь…»
— Выходи.
Озираясь, выбрался на волю Вобей, взъерошенный, как зверь, упал на колени, губами приник к руке дружинника:
— Ангел ты, святая душа. А во мне не сумлевайся — исполню свой обет и за тебя помолюсь.
— Молись, грешник, молись. Да не мешкай, ступай, покуда не увидели…
Кинулся Вобей во тьму, и затихли его шаги в отдалении. Веселица еще постоял немного, усмиряя встревоженное дыханье, взял ведерко с медом и вошел в избу.
— Ты где же это пропадал? — накинулся на него Звездан. — А мы уж искать тебя наладились…
— Чо искать-то? — смущенно пробормотал Веселица. — Покуда меду нацедил, покуда коням сена задал — седни у всех денек был не из легких.
— Вобея проведал ли? Сидит?
— Куды ж ему деться?..
Вои засмеялись, Звездан похлопал Веселицу по плечу:
— Поворачивайся, хозяин. Вон и ковшички, и чары уже на столе. Лей, да мимо не пролей, а мы песни петь будем.
— Скоморохов бы сюды!
— А то и гусляра…
— Гусляры князей забавляют. А мы сами себе и скоморохи, и гусляры.
Митяй глядел на всех с восторгом. Вот она жизнь! И четырех дней не минуло, как выехали из Новгорода, а сколько всего довелось повидать. Подле Ефросима-то робкой была его душа, а здесь робкому не место. Пили все помногу, еще боле хвастались… Митяй тоже хвастался — и никто над ним не смеялся, слушали с уважением, как равного…
А Веселице почему-то вдруг сделалось грустно. И зря ластилась к нему Малка, зря старался рассмешить Ошаня.
Под утро иные спали в ложнице — вразброс на половичках, иные — в горнице на столах. Только Ошаню и Веселицу не брал крепкий мед.
Ушла Степанида. Поводя вокруг себя покрасневшими глазами, Ошаня говорил с угрозой:
— Пойду к попу Еремею. Хочешь, пойдем со мной?
— Не, — отвечал Веселица, мотая головой.
— Ну, как хошь, — обиделся Ошаня и встал из-за стола. — Спасибо, хозяйка, за хлеб-соль. Ввечеру ко мне наведывайтесь…