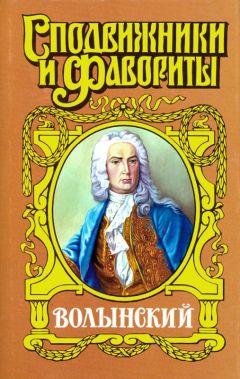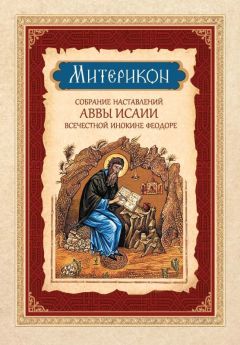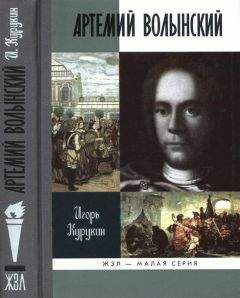За обедом он попытался было попенять ей, но она сидела улыбчивая, всласть угощалась всякими вкусностями и только отмахивалась от укоризн Долгорукого:
— Да ведь я подписала пункты, что ты беспокоишься, Василий Лукич?
И он сидел, терзаемый подозрениями и сомнениями, ничего не ел и не пил — всё казалось ему пресным.
Артемий был среди депутации, подавшей прошение Анне, видел, как ловко провела она Долгорукого, предоставив гвардию своему дяде — Василию Фёдоровичу Салтыкову. «Умна, ничего не скажешь, — подумалось ему. — И лукава, — прибавил он. — Тут держи ухо востро...»
В совещательной зале было душно, дымно и шумно. Все кричали, не в силах спокойно и серьёзно обсуждать проекты. Вышел вперёд красноречивый Татищев и прочёл несколько пунктов от себя. Но, устраняя пункты верховников, он начал в чём-то поддаваться их стремлению ограничить власть самодержца.
Собрание забурлило. Попросили тогда написать проект Антиоха Кантемира, сына молдавского господаря Дмитрия Кантемира, прибившегося ко двору Петра Великого после поражения в Прутском походе. Антиох славился сатирами, которые писал на вельмож, и перо у него было быстрое и бойкое.
Впрочем, долго писать было нечего и не о чем. Дворец был переполнен гвардейцами, полковником которых объявила себя Анна, и ясно было, что она не позволит унижать себя ограничениями.
После сытного обеда с рюмочкой-другой перцовки Анна вышла в соседнюю залу. И снова подошла к ней депутация и протянула челобитную со ста пятьюдесятью подписями. Первой среди них красовалась подпись Волынского: «Всепокорнейшие рабы ваши всеподданнейше приносят и всепокорно просят всемилостивейше принять самодержавство своих достославных и славных предков, а присланные от Верховного тайного совета и подписанные пункты уничтожить...»
Анна прочла эту челобитную и громко сказала, обращаясь к депутации:
— Моё постоянное желание было управлять моими подданными мирно и справедливо, но я подписала пункты и должна знать: согласны ли члены Верховного тайного совета, чтоб я приняла то, что теперь предлагается народом?
Все восемь верховников стояли понурив головы: они проиграли — это было уже ясно. Анна взглядом требовательно добивалась ответа. И престарелый канцлер Головкин первым склонил голову в знак согласия. Василий Лукич Долгорукий просто сказал:
— Да будет воля Провидения!
— Стало быть, — спокойно и холодно продолжила Анна, — пункты, поднесённые мне в Митаве, были составлены не по желанию народа?
— Нет, нет, — закричали стоящие рядом гвардейцы и дворяне.
— Нет, — сказал и Волынский.
— Стало быть, ты обманул меня, Василий Лукич? — грозно спросила Анна.
Старый интриган опустил голову.
— Принесите пункты, подписанные мною в Митаве, — велела Анна, ни к кому не обращаясь.
Должно быть, их держали наготове, потому что тут же из дверей выскочил Василий Фёдорович Салтыков и с поклоном протянул Анне «Кондиции».
— Эти ли пункты были мне переданы в Митаве? — показала она свиток Долгорукому.
Он горестно кивнул головой. Но Анна ещё раз зачитала эти пункты:
— «Обещаю в течение своей жизни не вступать в брак и не назначать себе преемника, править вместе с Верховным тайным советом и без согласия его войны не начинать, мира не заключать, подданных новыми податями не облагать, в чины выше полковника не жаловать, у дворянства жизни, имения и чести без суда не отнимать, вотчин и деревень не жаловать, в придворные чины не производить, государственные доходы на личные нужды не употреблять».
Она прочла и свой ответ — он был составлен верховниками в Москве, как будто от своего имени даровала она Верховному совету такие полномочия.
Она ещё раз читала, и все видели, как наслаждалась она этим — униженно будут молить о пощаде Долгорукие, злобствовать по их поводу станут другие, но власть их кончилась.
Анна подняла высоко руки, чтобы видели все, разорвала бумагу и бросила обрывки под ноги, а потом наступила на них ногой.
Артемий откровенно любовался Анной. Как хороша она в этом парчовом, затканном золотом парадном платье, как крепок её немного располневший стан, как величественна и пряма её фигура, как властны и плавны все её движения! Большое декольте приоткрывало высокую смуглую грудь, а на полной шее и в небольших ушах под зачёсанной вверх высокой причёской переливались большие бриллианты. Она была настоящая царица! Ей было всего тридцать семь, она моложе его на три года.
Жестом руки она отпустила всех.
Дмитрий Голицын, выходя из большой залы, где валялись на полу обрывки «Кондиций», горестно проговорил, ни к кому не обращаясь:
— Пир был готов, но званые оказались недостойными его. Я знаю, что паду первой жертвой неудачи этого дела. Так и быть, пострадаю за Отечество. Мне уже и без того остаётся немного жить. Но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего...
Ещё до коронации Анна упразднила Верховный тайный совет и вместо него назначила Кабинет министров. Головкин, Черкасский и Остерман начали управлять страной. Анна ходила в Сенат, подписывала бумаги, но главным для неё было — поскорее короноваться.
И через неделю после памятного совещания, где она разорвала «Кондиции», началась торжественная церемония.
Золотом сверкала внутренность Успенского собора. По сторонам высокого крыльца рядами выстроились все знатные люди государства — генералы и офицеры, вельможи и сановники, сенаторы и дворяне. «Прибыли на свадьбу, — шутили приезжие, — попали на похороны, а потом на коронацию».
Торопливо провела Анна свою главную церемонию. Но торжественная служба, а потом возложение короны на голову, помазание елеем прошли пышно и памятно. И традиционные жареные быки появились под окнами Кремлёвского дворца, и пошли гулять черпаки с водкой, выставленной в больших бочках, и монеты кидались из окон.
Накануне своего отъезда из Москвы в Казань попросил Артемий аудиенции у царицы.
Анна приняла его в покоях московского дворца: она ещё не имела своей резиденции в Москве — это уже через год Растрелли построил ей Анненгоф в Москве, деревянный дворец.
— Что ж, Артемий, — просто сказала ему Анна, сидя перед зеркалом и наблюдая, как гофмейстерины сооружают ей замысловатую причёску, — инквизицию на тебя сделали?
— Наветы, государыня. — Артемий встал на одно колено и поцеловал протянутую ему полную руку, унизанную перстнями с дорогими камнями. — Нельзя деятельному человеку трудиться, чтобы не вызывать зависти и злобы...
— Да, — покачала Анна головой. — Нам, русским, хлеб не надобен, мы друг друга едим... — проговорила она свою любимую поговорку.
— Истинно так, государыня.
— Не горюй, — повернула она к нему лицо, — уничтожила я эту инквизицию. А дела твои все просмотрела, чист ты, как стёклышко. Так что возвращайся к себе и трудись для Отечества. А позже я о тебе вспомню...
— Не знаю, как и благодарить тебя, государыня, — опять припал к её руке Артемий.
— Трудись на благо Отечества, вот и вся благодарность, — ответила она.
Они говорили эти затасканные и обтёртые долгим употреблением слова, а между ними происходило что-то никому не видное. Рука её, поданная ему для поцелуя, чуть вздрагивала, а он склонялся, покрасневший, с бьющимся сердцем. Но и виду они не подали, что это короткое свидание разволновало обоих. И не было это ни влюблённостью, ни давней любовью — просто оба они уходили в свою молодость и видели друг друга такими, какими были.
Он ехал домой, перебирая в памяти все события такого насыщенного года. Он всё время писал Александре Львовне, справлялся о здоровье её и детей и получал от неё тихие, ласковые, как и она сама, письма. Она писала, что в доме всё исправно, и все здоровы, и что Петрушка уже начинает буянить и шалить, и всё больше и больше нужен ему мужской догляд. И все они скучают и ждут его, и дай бог, чтобы всё у него хорошо кончилось, и чтобы не обернулась эта проклятая инквизиция — та комиссия, которая может отправить и под следствие, и под суд, и в ссылку, — чем плохим для него, и что все они — и дети, и она — волнуются за него, крепко его любят, обнимают, целуют и жаждут увидеться.
Она писала, что дома всё хорошо, она успокаивала его, а сама уже лежала в смертельной болезни. И никому не разрешала писать ему о ней.
Он застал её едва живой.
Худая, иссохшая, она походила на живой труп. Он ужаснулся и казнил себя, что остался и на похороны Петра II, и на коронацию Анны, но она даже словом не намекнула, что тяжело заболела.
И вот он везёт её, мёртвую, в тот город, где она родилась, где погребены все её родичи, и положит её в фамильный склеп Нарышкиных и до конца дней будет казнить себя за её смерть...