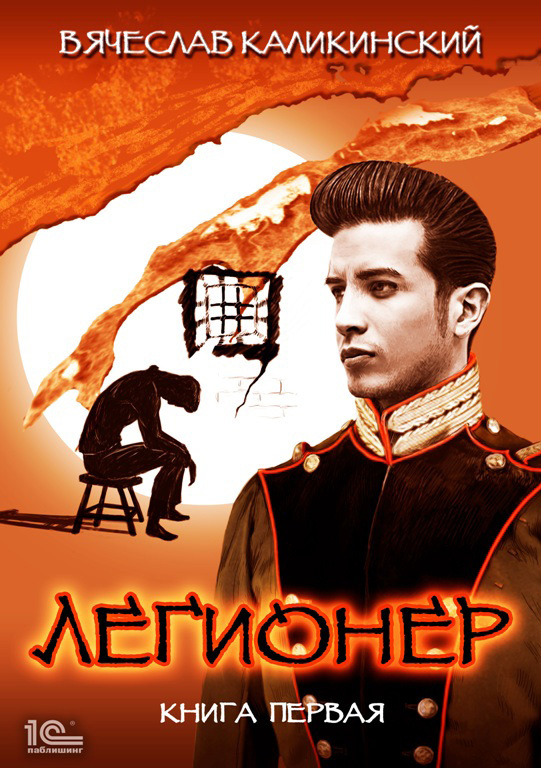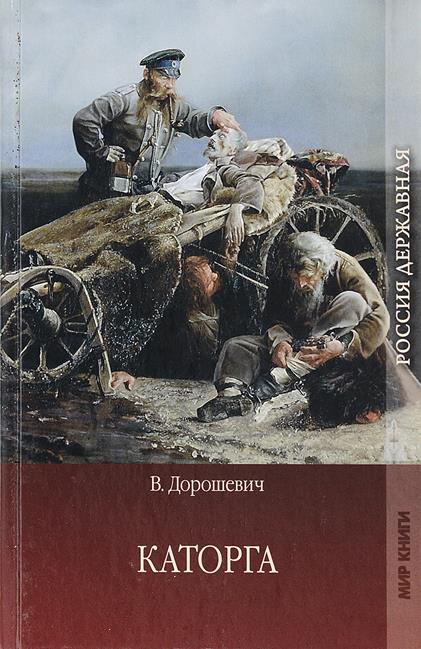домом грузили на тележку сотни соломенных то ли тапочек, то ли сандалий.
Рикши наперебой кланялись, указывая руками на широкие проемы дома, и всем свои видом показывали, что доставили путников туда, куда они желали — в гостиницу.
При расчете с рикшами опять возникли трудности: Попов явно не понимал, сколько те просят заплатить. Потеряв терпение, Ландсберг вспомнил, что еще на пароходе наменял мексиканских долларов, которые здесь, как уверяли все, были в ходу. И протянул на ладони пригоршню мелочи, жестом показывая, чтобы рикши сами взяли то, что им причитается.
Японцы, продолжая свои бесконечные поклоны, деликатно взяли с ладони по мелкой монете и отступили.
— Ну, Сусанин, веди — куда тут надобно идти-то? — предложил Ландсберг, все еще оглядываясь на груду рваных сандалий, быстро исчезавшую с тротуара. — Кстати, а что это они делают?
— А это, Христофорыч, местная обувка. Япошки не заморачиваются: сплел, день походил, и выбросил. Утром новую пару надел — и пошел себе дальше. Пошли внутрь…
Гостиница, куда они попали, больше походила на низкопробную ночлежку. В просторных комнатах у стен лежало дюжины две-три свернутых циновок, увенчанных сверху короткими круглыми полированными поленьями. Больше в комнатах ничего и не было — как не было видно ни одного постояльца.
— Оне, Христофорыч, японские путешественники, то есть, чуть свет гостиницу покидают, — пояснил Попов. — Эй, есть тут кто живой?
На голос из глубины дома, раздвинув раму, вышел пожилой японец в традиционной одежде. Узрев двух европейцев, он закланялся, делая рукой приглашающие жесты. Снова начались мучительные переговоры. Путники требовали себе отдельные комнаты, хозяин радушно показывал руками на циновки: выбирайте, мол, любую!
— Я гляжу, Сергей Сергеич, — не иначе, как и этот японец деревенского происхождения, раз тебя не понимает, — едко обратился к спутнику Ландсберг. — И с ним столковаться не можешь!
— Забывается быстро, язык-то ихний! — забормотал Попов. — Года два, почитай, не был здесь, вот и подзабыл малость.
— «Подзабыл, подзабыл»! — передразнил в сердцах Ландсберг. — Да знал ли ты его вообще? Тут же есть где-то гостиницы европейского типа, нормальные! Я сам читал про это, и люди говорили. А ты куда меня привез? Чего сразу не сказал нашим «рысакам», что нам нужно? Хорошо, что багаж на пароходе оставили, как сердце чуяло… Что теперь делать-то станем?
— Щас мы, мигом! — Попов все еще пытался сделать хорошую мину при плохой игре. И снова повернулся к хозяину, пытаясь объяснить, что им нужны не отдельные циновки, а отдельные комнаты.
Ландсберг понял, что толмач ему достался никакой, и надо брать инициативу в свои руки. Он решительно оттащил за рукав Попова:
— Вот что, мил-друг! Кончай-ка ты свои попытки изъясняться и пошли на угол, где свернули. Наймем других рикш, поедем обратно в порт, и начнем все сначала. И только попробуй мне еще что-то по-японски сказать! Толмач!
Без труда «поймав» двух рикш, путники вернулись в порт, где уже через несколько минут Ландсберг нашел представителя немецкой пароходной компании, прекрасно говорящего по-японски. Этот представитель знал и несколько гостиниц в Нагасаки, оборудованных в соответствии со вкусами и привычками европейцев. Он без труда объяснил терпеливо дожидающимся «скакунам», куда следует отвезти путников, и те бодро побежали в нужное место.
— Трепло ты, Сергей Сергеич! И на что только рассчитывал, скажи на милость? — пилил Ландсберг своего спутника по дороге. — Неужто на то, что я с тобой буду в Японии беспробудно пьянствовать и не пойму ничего?
Прошло несколько дней. Ландсберг в гостинице не сидел, с утра и до вечера бродил по улицам и переулкам Нагасаки. И по-прежнему не уставал поражаться местной экзотике, чудным японским нравам и обычаям. Он дважды посетил банк «Ниппон Гейко», привел свои финансовые дела в порядок, сделал необходимые закупки и даже успел переправить товары в портовый склад.
В отличие от него, Попов гостиницу почти не покидал, и все это время беспробудно пьянствовал, чем изрядно надоел своему спутнику.
— Вот брошу тебя здесь, Сергей Сергеич, и поглядим тогда, надолго ли твои капиталов хватит, — полушутя-полусерьезно воспитывал его Ландсберг как-то утром, шагая по номеру и искоса поглядывая на опухшую страдающую физиономию Попова. — Нет, ты мне скажи — когда ты коммерцией успеваешь заниматься, ежели это твое обычное времяпровождение, а? Ведь худо-бедно, а торговлишка-то твоя во Владивостоке держится пока… Не поделишься секретом?
— Отстал бы ты от меня, Христофорыч! И так тошнехонько, — стонал с кровати Попов. — Персонал у меня подходящий, вот и весь секрет. На доверии работаю с ними, не то что вы, толстосумы — каждый грошик учитываете! Бросишь? Ну, бросай, коли тебе, брат, совесть позволит. Думаешь, пропаду?
— Давай-ка, подымайся, Сергей Сергеич! — не отставал от него Ландсберг. — Хватит уже бока облёживать! И не надейся, что хозяин тебе опять виски либо водку в номер доставит! Я его уже предупредил на твой счет — а японцы дисциплинированные, сам знаешь! В город пойдем. Не пойдешь — удержу с тебя и проезд первым классом, и все накладные расходы. Ей-богу, удержу, мое слово твердое.
— Да зачем я тебе нужен в этом богопротивном Нагасаки? — скулил Попов. — И каков я ходок по местным достопримечательностям, ежели головку не «поправлю» по нашему, русскому обычаю? Ты-то немец, тебе не понять! Отмени распоряжение хозяину, Христофорыч! Сделай милость — оне ведь и впрямь послушные здесь все, мать их японскую за ногу…
— Не отменю! Верь слову — не отменю, и не проси. На дорожку и на «поправку» дам пару стопок — и до обеда! Зайдем потом куда-нито в ресторацию — еще позволю. Срам ведь, Сергей Сергеич! Спрашивать знакомые станут — чего видел в Японии — а ты и не видал ничего. Вставай, говорю!
Угрозы подействовали. Попов, поломавшись, с матерками встал и оделся, истово вытянул обещанные две стопки местной водки, выклянчил, апеллируя к ее «вонючести и непригодности для русского организьму» третью, и нехотя выбрался вслед за Ландсбергом на улицу.
Так они и пошли — Ландсберг впереди, а Попов тянулся сзади, умоляя взять хоть рикш. Но спутник был неумолим, и продолжал идти впереди, с любопытством глядя по сторонам.
Невольно чувствуя себя дремучим медведем, всю прежнюю жизнь прожившим в некоей глухой чащобе, Ландсберг жадно впитывал новые впечатления. И едва ли не более всего поражался добрым и открытым лицам здешних обитателей. Надо же — здесь и явный бедняк, местный поденщик — все приветливо улыбались, ежели ловили на себе взгляд встречных. При этом Ландсберг невольно вспоминал вечно хмурые лица каторжников и не менее хмурые и неулыбчивые лица сахалинских чиновников… А вечно озабоченные чем-то глаза и физиономии дамочек сахалинского