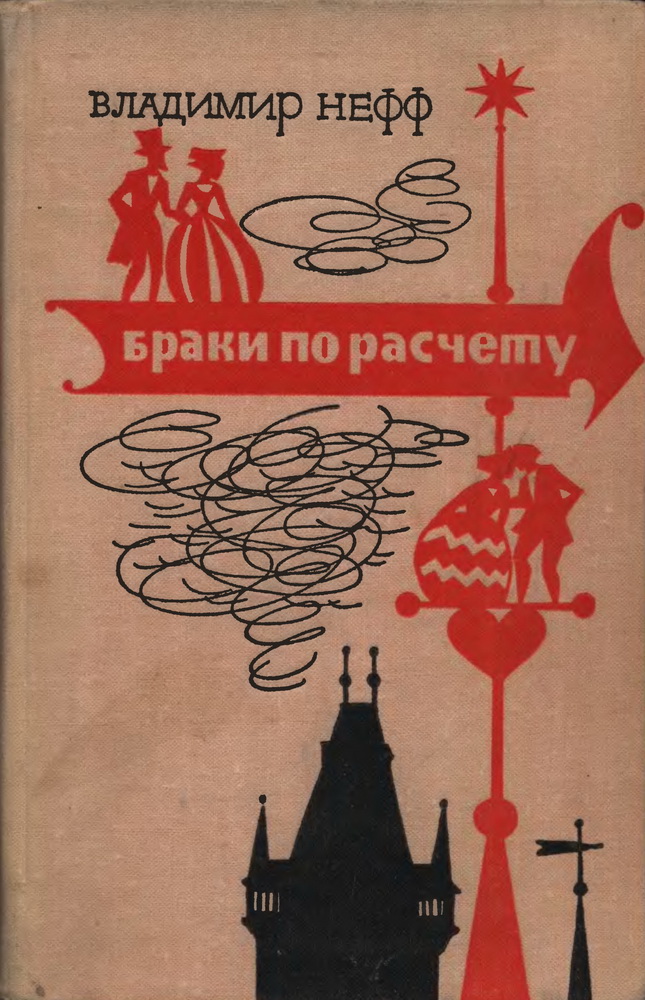птицы, которых не могло спугнуть угрюмо-безмолвное движение молчаливых отрядов, ночной туман стал оседать в виде мелкой, назойливой измороси, позже перешедшей в частый дождь. Местами низкое небо совсем сливалось с серой землей, по которой разбросались разорванные клочья холодных паров. Деревья, как мокрые метлы, стряхивали с ветвей пригоршни холодных капель. Солдаты шагали медленно, беззвучно передвигая натруженные ноги по мокрой траве, по затоптанным хлебам; все знали, что подходит решительный час и многие из них сегодня простятся с жизнью. Движение часто прерывалось — лафеты тяжелых орудий увязали в рыхлой земле картофельных и капустных гряд.
В начале седьмого часа утра голова обеих армий достигла холмов западнее Быстршице, параллельных высотам, поднимавшимся на том ее берегу, между деревнями Липа и Хлум, как раз посередине прямоугольного пространства, занятого армией Бенедека, представляя собой стратегический и наблюдательный центр австрийцев. Последние же лишь двадцать минут тому назад заметили приближавшегося неприятеля и затрубили тревогу, когда авангард Восьмой прусской дивизии уже вступил в брошенную деревушку Дуб, неподалеку от Садовой, расположенной на крайней северо-западной точке наших позиций. Чуть позднее четыре прусских кавалериста-наблюдателя поднялись на высоту, скрывавшую расположение австрийцев, — и тогда на австрийской стороне, возле белой остроконечной колокольни костела в Хлуме, ясно видимое на зеленом фоне, вспухло круглое облачко, а через несколько секунд донесся и раскат первого пушечного выстрела. Величайшая битва девятнадцатого века, битва под Градцем Кралове, которую иные чужестранные историографы называют битвой под Садовой, началась.
В половине восьмого утра фельднейхмейстер Бенедек сидел еще у себя в гостинице «У города Праги» и писал письмо горячо любимой жене своей Юлии, в котором сообщал ей, что если его не покинет прежнее военное счастье, то все кончится хорошо, и если начнется битва, то он, Бенедек, всеми своими помыслами и чувствами будет с нею и с императором Францем-Иосифом; в эту минуту в дверь ворвался, едва постучав, его личный слуга и доложил о генерале Баумгартене, недавно назначенном начальником австрийской оперативной службы.
— Ничего, не горит ведь, — ответил Бенедек и, отчитав хорошенько слугу за то, что тот не умеет как следует стучаться в дверь и вообще ведет себя взбалмошно, не по-военному, спокойно закончил письмо, присыпал песочком, сложил троекратно, заклеил и надписал адрес. Лишь после этого он принял Баумгартена — и бровью не повел, великолепный в своем хладнокровии, когда выслушал доклад генерала о том, что со стороны Садовой слышны орудийные выстрелы, из чего можно заключить, что пруссаки атакуют наши позиции на Быстршице.
— Положимся на волю божию, — смиренно произнес Бенедек, пристегивая саблю и собираясь выйти.
Дождь лил как из ведра, когда штабные генералы с Бенедеком во главе, со свитой из трех сотен всадников, выехали на поле битвы; канонада усиливалась, она гулко раскатывалась где-то за серой завесой дождя и тумана, сливаясь с веселой музыкой военных оркестров, наяривавших венские вальсы, венгерские чардаши и польские краковяки. Чешских песен не играли по той причине, что они очень уж грустные.
Облачка порохового дыма, похожие на белые удлиненные воздушные шары, выскакивали в тумане — сперва поодиночке, потом постепенно сливаясь в одну длинную непрерывную полосу, в которой мгновенно взблескивало пламя, вырывавшееся из пушечных жерл. В седоватой мгле, сами серые, длинными шеренгами двигались массы войск, трудно всползая на склоны холмов, и временами, когда из-за туч выглядывало сердитое, зябкое солнце, искрились в его мимолетных лучах штыки, примкнутые к ружьям; эти массы человеческих тел беспрестанно меняли форму, они то растягивались длинными лентами, то сжимались, образуя прямоугольники, то прогибались полукружиями, переплетались или обтекали друг друга — чудовищный живой калейдоскоп. К отрядам, готовящимся в бой, обращались командиры, вылаивали что-то по-военному отрывистое, часто поминая бога, императора и отечество, кончая всегда и неизменно:
— Патрон скуси!
Тогда на земле перед каждым рядом бойцов появлялась голубая полоска брошенных бумажных гильз от патронов, солдаты заряжали ружья, забивая пули в дуло железным шомполом, и клали на полку один из медных запалов, запас которых носили в мешочке на груди. Затем, после того как военные священники давали им всем чохом генеральное отпущение грехов: прелюбодеяний, пьянства, воровства и лжи, употребления всуе имени господа или забвения святых заповедей, — отряды уходили в бой, провожаемые меланхолической музыкой Кёрнеровской молитвы «Vater, ich rufe Dich» [35], которую им на прощание играла полковая капелла.
Было уже четверть девятого, когда Бенедек со своей свитой поднялся на самый высокий из трех холмов между деревнями Липа и Хлум. В этот же самый момент или, может быть, несколькими минутами ранее, вдали на неприятельской стороне, поднялся странный шум; глухой и протяжный, сперва невнятный, шум с каждой секундой нарастал и приближался, пока не превратился в громоподобный грохот, настолько громкий, что даже орудийная пальба не могла его заглушить: то были клики десятков тысяч солдат, приветствующих своего седовласого короля, который, в сопровождении Бисмарка и небольшого кавалерийского отряда, только что, проделав трехчасовой путь верхом из Ичина, подоспел на поле брани и поднялся на высоту за деревней Дуб, позади имперского тракта, ведшего от Садовой к Градцу, — на ту самую роковую высоту, с которой вчера майору фон Унгеру неожиданно открылась панорама австрийского лагеря.
Все это происходило где-то в неясной, размытой дождем и туманом, дали; а в непосредственной близости кипел бой за переправы через Быстршицу; их защищали три австрийские бригады, то есть тысяч двадцать солдат, и главной заботой их было отстоять каменный мостик в Садовой, который Красный Принц пытался захватить яростной кавалерийской атакой. Поддержанные огнем легких орудий, выдвинутых к самому берегу, поросшему кустарником, черные гусары с серебряными черепами на мохнатых шапках мчались по откосу к речке, сохраняя идеальное равнение несмотря на скользкую и рыхлую прибрежную почву; их косила шрапнель, снаряды, разрываясь у них над головой, осыпали их градом свинца, их рвали на части гранаты австрийской батареи, засевшей напротив, за Садовой, в фруктовом саду, они падали дюжинами, — но все новые и новые черные ряды выскакивали из тумана и под пронзительное пение труб, сабли наголо, катились к мосту. И получаса не продолжалась битва, а речку уже покрыли трупы, — одни плыли на спине, другие лицом вниз, там и тут торчали из воды ноги…
На краю левого крыла пехотинцы Седьмой прусской дивизии снимали ранцы — так они делали всегда, готовясь к атаке; потом, примкнув штыки, частью перешли Быстршицу вброд, частью перебежали по узенькому деревянному мосту и при поддержке уланского эскадрона, прикрывавшего их правый фланг, ворвались в деревеньку по названию Бенатки, которую прусские пушки, подготавливая атаку, только что обратили в