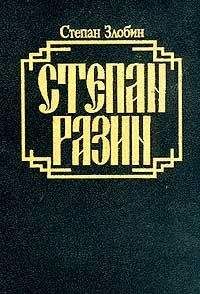– За дружбу казацкую, за братскую веру! – провозгласил Корнила.
– Пьем, атаман! – отозвался Федор и, глядя Корниле в лицо, широко плеснул за плечо полный кубок, так что рубиновые брызги попали Степану на руку.
Корнила, успевший выпить свою чашу, и Федор сцепились острыми взглядами, как в рукопашной схватке враги, и не могли оторваться. Злоба горела на лицах обоих.
– Не веришь мне, Федор? – прищурясь, тихо спросил Корнила.
– Не верю, Корнила! Лиса ты и есть лиса. Да стара, хоть хитра... А я, брат Корнила, лисятник, ямы на вашего брата копать искусник.
«Кремень есаул!» – радостно подумал о нем Степан.
– Ты яму другому не рой. Бывает, и сам в нее попадешь! – огрызнулся Корнила.
«Обиделся, старый пес», – сказал про себя Степан. Корнила взглянул на него. Они встретились взглядами.
– Не отдадим, крестник, Дона боярам? – пьяно спросил Корнила.
– Не отдадим, батька крестный! – подражая ему, так же пьяно ответил Степан и тут же заметил, что, если бы он и не хотел подражать, сам язык его ворочался тяжело.
«Неужто я пьяный?! – мелькнула мысль. – Нельзя мне пьянеть!»
– Как на Украине, бояре хотят у нас насадить воевод, а старшинство купить чинами боярскими, как гетмана Брюховецкого, – говорил соседям Корнилин приятель Демьян Ведерников.
– А что ж, «боярин Корнила Яковлич Ходнев» – то не худо бы слышалось уху! – с насмешкой крикнул Степан. – Да ты, Демьян, зря не бреши: польстились бы вы на боярство – ан не дадут его вам. Серчают бояре, что вы вора Стеньку не задавили.
– Писали про то из Москвы, – дружелюбно признался Корнила. – Выпьем, Степан, чтобы не было никогда на Дону бояр! – громко воскликнул он, снова протягивая к Разину свою чашу.
«Здоров, старый черт! Пьет, пьет, а не свалится!» – подумал Степан. Он поднял свой кубок, и вдруг ему показалось, что свечи горят тускло, что всю землянку заволокло туманом, а уши его залепила смола...
– Не гневайся, крестный, больше не пью, – с трудом ворочая языком, произнес Степан, и какая-то злая тревога толкнула его сердце. – Фролка, сыграй-ка песню, потешь гостей! – громко выкрикнул он, чтобы отогнать от себя внезапный прилив беспокойства.
– Потешь-ка, Фрол Тимофеич! Сыграй, потешь! – загудели гости, и Фролка рванул струны...
Эх, туманы, вы мои туманушки,
Вы, туманы мои непроглядные,
Как печаль-тоска ненавистные... -
запел Фрол. Голос его был нежный, дрожащий, словно струна, и все приутихли и смолкли, слушая.
Хмель кружил Разину голову. Песня Фролки брала за сердце. Она лилась высокая и протяжная, просясь на широкий простор. Ей было тесно в душной землянке, в табачном дыму, в копоти и хмельном чаду. "Выйти сейчас, вскочить на седло да и гнать по степи, вдогонку за дедом Панасом да Дроном... А тут будут сидеть, пировать, – небось с пьяных глаз не почуют, что я ускакал. А Алене велеть сказать: «Притомился Степан, рана на голове заныла, и лежит».
– Ваня, как там Каурка? – негромко спросил Разин конюшенного казака, сидевшего невдалеке за столом. Конюшенный знал уже, что атаман собирается ночью скакать за ушедшим войском и самому ему тоже велел быть готовым в путь.
– Кормится, батька! Добрый конек в наследство тебе остался. Ты не тревожься – все справно у нас на конюшне, – намекнул конюшенный, но, заметив строгое движение бровей атамана, замолк.
Ты взойди, взойди, солнце красное,
Над горой взойди над высокою.
Над дубравушкой над зеленою,
Над урочищем добра молодца...
Песню хотелось слушать и слушать; она таила в себе безысходную грусть, но от грусти этой делалось сладко.
– Врешь, Фрол! Не ту поешь! Дунь плясовую! – заглушая пение, хрипло крикнул Корнила.
Фрол замолк, поднял опущенные ресницы, весело и хитро усмехнулся и лихо щипнул струну, которая взвизгнула неожиданно тонко, по-поросячьи, всех рассмешив даже самым звуком.
Ходил казак за горами,
За ним девушки стадами,
Молодцы табунами...
Дрогнул дощатый пол землянки. Петруха Ходнев бросил под ноги шапку и первым пошел в пляс...
– Ходи-и-и! – тонко, заливисто грянул Юрко Писаренок.
Пошли наши гусли
Писать ногой мысли
С печи на лавку,
С лавки на травку...
Поднялся гомон. Все хлопали в ладоши, притопывали, присвистывали и подпевали в лад.
Плясали с гостями и кагальницкие казаки, все кипело, но Разин заметил, что лицо черкасского плясуна Еремейки Седельникова было испуганным, увидел, что вздрагивают седые усы Корнилы, что Петруха кому-то что-то шепнул и тотчас опасливо покосился на кагальницких. Иные черкасские гости, словно в каком-то смятении, подталкивали друг друга локтями, переглядывались и тотчас опасливо прятали взор...
«Хитрости нашей страшатся, сами ли затевают измену?» – подумал Разин.
– Тезка! – негромко позвал он Наумова. – А что там на дворе, как наши казаки?
– Пьют, батька! – беспечно ответил Наумов. – Не наши и наши – все пьют. Фрол Тимофеич им выкатил бочку горилки, какую с собою привез из Качалинска-городка. Веселятся!..
– Поди-ка уйми, чтобы не пили больше, – строго сказал Степан.
Наумов поднялся со скамьи, шатаясь, добрел до двери и тяжело осел на сундук. Разин хотел окликнуть его, но в этот миг отворилась дверь и в землянку вошел белей снега Прокоп.
Степан с тревогой взглянул на него, даже чуть привскочил, но казак успокоил его глазами. Он подошел к Степану и, встав за его спиной, прошептал на ухо:
– Не могу я так, батька. Сердце мое изболелось тебя тут покинуть средь них. Гляди, у них рожи какие... Я возле буду стоять.
– Сбесился ты, порченый! А кто в караульной остался?
– Там Никита. Он скличет меня, коли что.
– Давно уж ушли Черевик с Дроном? – тихо спросил Степан.
– Час, должно быть, уж минул, – так же тихо сказал Прокоп.
Разин взглянул на Наумова, который так и сидел на сундуке у дверей, тяжело опустив голову.
«Не в час нализался, скотина тезка! – подумал Степан. – Упреждал его не напиться!»
– Ваня! – снова позвал он конюшенного. – Иди-ка Каурку там посмотри. Да скажи, чтоб отстали казаки пить. Будет уж им веселья. Тверезыми были бы...
Конюшенный поднялся от стола и, трезво пройдя по избе, вышел во двор.
Степан тряхнул головой, отгоняя хмель. Про себя подумал: «Как поскачем, пройдет на ветру!» Он огляделся вдруг потрезвевшим глазом, прислушался трезвым ухом.
С печки на лавку,
С лавки на травку...
Фролка трепал струны. Отсвет свечи тонул в полированном черном дереве гусель.
Сквозь песни, присвист и плеск ладоней Степану послышались за дверями тревожные звуки, но песня их заглушала.
На улице диво:
Варил чернец пиво!..
Пиво-то, пиво!.. -
отчаянно громко выкрикивал хор голосов, без веселья, без смысла, уже без пляски, как бы только лишь для того, чтобы наполнить землянку гвалтом. Черкасские кармазинные кафтаны сбились все в одну нестройную кучку. Степан увидел, как Корнила что-то шепнул одному из своих на ухо...
Дверь со двора распахнулась. Без шапки, встрепанный Никита Петух ворвался в землянку.
– Атаманы! Измена! – крикнул с порога Никита. – Батька! Черкасские лезут!..
Петруха Ходнев в наступившей вдруг тишине выстрелил из пистоля в упор, в лоб Никиты.
Разин вскочил и рванулся из-за стола, но тут грохот страшного взрыва потряс землянку. С потолка посыпалась пыль, распахнулось окошко, и три-четыре свечи разом погасли... В тот же миг кожаная петля захлестнула Степана через голову сзади за шею.
Задыхаясь, Степан сунул руку за пояс, схватил пистолет, направив его к себе за плечо... Пистоль лишь беспомощно щелкнул... Но вокруг бушевали уже крики, удары, лязг сабель...
Степан чувствовал, что на его плечах сидят трое, а может быть, четверо... Он ухватил уздечку, сжимавшую его горло, силясь ее растянуть руками, по несколько человек валили его на пол. В борьбе Разин видел, как, очнувшись от хмеля и не найдя при себе оружия, Лазарь Тимофеев бросился на Петруху Ходнева с ножом. В тот же миг какой-то черкасский казак взмахнул саблей, и рука Лазаря, брызнув кровью, шлепнулась перед Степаном на стол.
Грянул еще выстрел. Петля вдруг ослабела на шее, и Степан увидал над собой на столе Федьку Каторжного с дымящимся пистолем в одной руке, с саблей в другой... Степан с силой отбросил двоих противников прочь, однако кто-то еще и еще навалился, и уздечка на шее снова стянулась крепче, ломая хрящи горла...
«Конец... удавили...» – подумал, слабея, Разин...
Степан очнулся опутанный двойной рыбацкой сетью. Горло ему отпустили, но двое казаков сидели у него на ногах и груди. С улицы слышалась пальба. Разноголосый вой покрывал отдельные выкрики.
Юрка Писаренок и другие черкасские жадно хватали со стола дорогую посуду – блюда, кубки и все кое-как со звоном и дребезгом кидали в сундуки. Какой-то казак срывал со стены оружие, изукрашенное золотом и камнями. Сам Корнила топорком на столе разбивал замок у заветного разинского ларца с узорочьем... Иные топорами рубили крышки сундуков, вытаскивали Аленино добро, раскидывали его между убитыми казаками, второпях топтали в крови сапогами шелк и атлас.