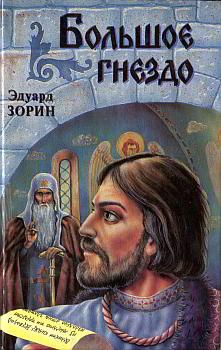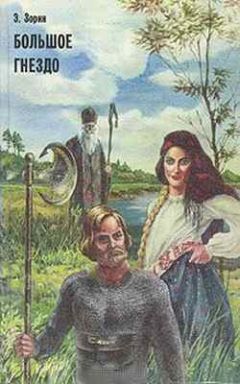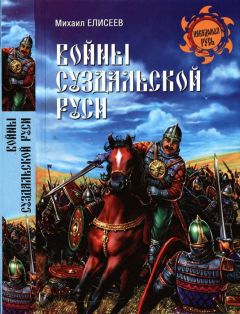Но еще и по-другому смекал Акумка: раз с князевой печатью посланный, значит, дело выгодное. Без выгоды князь тревожить себя не станет. Вот и не худо было бы белобрысого-то пугнуть, а Серку — к ногтю: пущай работает на Боровки, стругает прялки.
Пока Никитка с Серкой разглядывали церковь, пока лазили по кровле, Акумка прикидывал, что бы такое ему сделать, чтобы отвадить княжеских плотников от Боровков.
«Огонь — штука хитрая,— рассуждал Акумка, топорща бороду.— Огонь ведь полдеревни сжечь может. Вот беда... Да беда не беда, а моя изба с другого краю. Покуда красный петух долетит, мужички его словят...»
Поежился Акумка: страшно ему от смутных мыслей, но еще страшней от другого. Сказала ему Аленка, что Заборье теперь за братцем ее, Давыдкой, а Давыдка — не толстый Захария, Давыдка наладит гать через болото: земля-то его. И еще этот плотник надует в уши...
Сколько лет уж не думал о беде Акумка. А тут за все годы одним разом подумать довелось. Но на страшное рука не подымается. Ноги подкашиваются у Акумки.
«И Серкину избу, и храм божий спалить разом».
Помрачнел староста, сник.
Ни похлебка, ни квас не лезут Акумке в горло.
— Места наши гиблые,— рассказывал староста вечером молодому плотнику,— Леса, да болота, да кочкарник. Доброму мужику здесь не житье. Доброму мужику пашню орать, сеять хлеб, а у нас хлеба не растут... Худо.
Вечеряли при свете лучины, зажатой в поставце над кадушкой с водой.
— Сам-то, поди, не остался бы у нас? — кривил рот Акумка.
— Сам-то бы не остался,— соглашался Никитка,— У самого-то дело. Кому пашню орать, кому лес рубить, а мне ставить храмы. Зело красивый храм задумали мы поставить во Владимире. Красивее Успения божьей матери. Всем храмам храм.
— Доброе это дело,— покачивал лохматой головой Акумка.— Из белого камня?
— На века. Лес-то время источит. А нашему храму долго стоять...
— Эй, хозяйка,— позвал Акумка молчаливую сестру.— Ты бы нам медку принесла, доброго человека попотчевать. Без меду — какая беседа?
Непривычен был к меду Никитка, хмелел быстро.
А староста — себе на уме — подливал и подливал ему крепкого зелья.
— Пей, Никитка, от меду мысли очищаются, снятся хорошие сны...
И верно, сны Никитке снились хорошие. Снилось ему, будто плывет он по Клязьме меж зеленых берегов. Небо голубое, вода синяя. И тишина. Ни певчей птицы, ни шороха ветра, ни души вокруг. Плывет лодия, а всплеска весел не слышно. Диво.
А Никитка всматривается в даль. Чует он — вот-вот должно ему что-то открыться. Еще немного проплыть — может, до ближнего поворота, может, чуть подале. А вот от этой сосновой рощицы и совсем близко.
Качает лодию на встречной волне, дух захватывает у Никитки от бегущего навстречу бескрайнего простора. И терпенья уж не хватает Никитке. Впору оторваться ему от лодии, впору подняться над зелеными берегами...
И только подумал он об этом, как раздвинулись берега. Синяя гладь воды ушла вниз, а небо приблизилось, и белым дивом засверкал на горе, над краем обрыва, узорчатый храм с богатырским золотым шлемом.
Тут разом вздрогнула тишина, разорвалась стоголосыми криками. Заплескалась река, зазвенела вода под веслами, запели птицы в лесу, порывистый ветер ударил в уши звериными голосами...
— Вставай, вставай,— будила его Аленка и трясла за плечо.
Сон оборвался, Никитка вскрикнул и сел на лавке, часто моргая глазами. По стенам избы прыгали красные и желтые пятна, за оконцем шумела толпа.
— Беда, Никитка,— прижимаясь к нему, испуганно шептала Аленка,— Боровки горят.
В ложницу стучали.
— Да проснись же ты,— почти плача, тормошила парня Аленка.— Вставай. Али совсем очумел?
«Уж не Акумкина ли изба горит?» — почему-то подумалось Никитке. Он вскочил с лавки, босой, заметался от стены к стене.
В дверь стучали все настойчивее.
— Эй ты, заезжий,— долетали угрожающие голоса,— Не таись, выходи!
Аленка закричала. Подобру к спящим людям в двери не ломятся.
Никитка откинул щеколду. И тотчас же в ложницу ввалились взлохмаченные, орущие мужики. Впереди всех — Акумка с топором в руках.
Щуплый мужичонка в холщовой рубахе до пят замахнулся на Никитку корявой шелепугой, визгливо прокричал:
— Ентот?
Акумка перехватил его руку, прижал вздрагивающую шелепугу к полу. Мужик согнулся, корчась от боли. Никитка попятился, прикрывая собою Аленку.
— Вы что, мужики?
— Еще спрашивает! — загудели вразнобой.— Церковь пожег!.. Полдеревни в огне!..
Всех перекричал Акумка:
— Стойте, неча зря глотки надрывать. Перво-наперво нужно разобраться...
— А чо разбираться?
— Все и так ясно.
— Остыньте, мужики,— сказал Акумка.— Гостя я вам не отдам. Разве что самого изрубите...
Крики поутихли.
— Твой гость, тебе и решать,— пропищал мужик с шелепугой.— Только душу не томи. Боровки спалил — пущай головой расплачивается.
Лишь теперь понял Никитка, в чем его обвиняют. Мужики по-своему рассудили: жили полвека — беды не знали, забрел чужак — и нет Боровков.
Акумка грузно сел на лавку. Приглушенно ворча, мужики ждали у дверей.
— А что, как это Серка?— сказал кто-то.— С него станется.
Все молчали. Молчал и Акумка. Темный лоб его собрался в мелкие морщинки, глаза перебегали по лицам мужиков.
— Ты что,— разлепил Никитка пересохшие губы,— Ты и впрямь думаешь?
— Пьян ты был,— отворачиваясь, проговорил староста.
— Твоими-то медами...
— Не о том разговор,— отмахнулся Акумка. В Боровках его слово — закон! Захочет Акумка — и упадет Никитка под топорами. Только рот открыть Акумке...
Но Акумка медлит, боится беды. Не простой человек Никитка. И за Аленку крепко спросится с Акумки.
— Суд спор, а что, как и впрямь пришлый-то без греха? — повернулся староста к мужикам.
— Ишь ты,— ехидно пропищал мужик с шелепугой. Он стоял ближе всех к Никитке. Он первый и ударит. Уж очень хотелось мужику ударить Никитку. Хмельные глаза его были злы. Много, знать, накопилось в мужике горечи.
Но староста в деревне голова. Без Акумки ни лаптя, ни туеска не вынести из Боровков. Как решит Акумка, так решат и мужики.
— Волоките Серку,— сказал староста.
Мужики не двигались.
— Ну-ну! — прикрикнул на них Акумка.
— Серку-то за что? Серка — тихой,— сказали из толпы.
— В тихом омуте черти водятся. Никак, он и поджег.
— Божий-то храм.
— Зело хмелен был с вечера,— пояснил Акумка.— Волоките Серку.
У Никитки в голове прояснилось. Страх отпустил. Смело глядя на мужиков, сказал:
— Сдается мне, не там виноватого ищете.
Скуластое лицо Акумки налилось кровью. В тишине протяжно скрипнула лавка.
— Ты, пришлый, молчи,— отрезал Акумка.— Без твоего ума разберемся.
Мужики опять загудели, стали надвигаться на Никитку. Но прежней злобы в них уже не было. В глазах стояло любопытство: что еще скажет Никитка? Акумка не дал ему говорить.
— Ты в наших делах не советчик,— сказал он.— Сами разберемся. Верно, мужики?
— Разберемся, сами разберемся,— послышалось из толпы.
Напирая друг на друга, люди вышли из ложницы. Последним вышел Акумка. На пороге помедлил, обернулся:
— Ты, Никитка, уходи из Боровков, покуда цел. Вот тебе мой совет.
— Серку-то почто гробишь?
— Серка — наш человек. За Серку не боись.
— А церковь почто спалил?
Акумка не ответил. Взгляд его остановился на Никиткиных удивленных глазах.
Тут очнулась Аленка, вскрикнув, упала перед старостой на колени.
— Не губи, дяденька! — вдруг заголосила она,— Отпусти нас с миром из Боровков!..
— Ты — что? — растерянно наклонился к ней Никитка.— С чего ты взяла? Зачем?..
Торжествующая улыбка скользнула по Акумкиной бороде. Он отвернулся и, ни слова не говоря, вышел за дверь. Аленка билась в Никиткиных руках.
— Не роба ты,— успокаивал ее Никитка.— Почто — на колени?