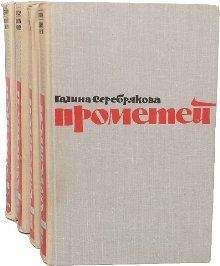Увидя Лизу, Бакунин смутился, точно был захвачен врасплох, торопливо надел очки, подобрал отвисшие было щеки, губы, расправил лоб, вытянул шею и сразу же стал другим, даже привлекательным. Ася со свойственной детям острой наблюдательностью подметила это превращение.
«Да этот господин не фокусник ли?» — хотелось ей спросить у матери. На привокзальной венецианской ярмарке она видела накануне человечка, который так ловко жонглировал масками, что они слету падали и удерживались на его лице.
Бакунин заказал густой кьянти и спагетти по-венециански.
— Что ж, лучшая вещь — новая, лучший друг — старый, — начал он, ласково глядя на Лизу, и принялся рассказывать ей о своей жизни после побега из Сибири. Как и в былые годы, он тотчас же забыл о собеседнике, поглощенный собой, уверенный, что каждая его словесная находка, выпад, мысль, рассказ — откровенье, благодеянье. Асе быстро наскучил непонятный для нее монолог, и она очень обрадовалась, когда кивком головы Лиза разрешила ей уйти погонять большой красный обруч по пустынному пляжу. Бакунин продолжал говорить и кончил патетически:
— Веление рассудка, сама сила вещей, смелое дерзанье духа привели меня к социализму, но я понимаю его по-своему. Я отрицаю всяческий порядок, ибо он есть рабство, оковы для мысли, кнут и унижение для человеческого рода. Только Маркс, этот кабинетный ученый, книжник, далекий от жизни, не хочет этого видеть.
— А что же тогда беспорядок? — широко улыбнулась Лиза. — Я перестаю понимать вас.
— Я и мои единомышленники считаем, — заявил Бакунин патетически, — что беспорядок — это безвластие, беспощадное разрушение всего, превращение в обломки всей нашей цивилизации, дабы наследники наши не получили ничего, кроме развалин, и вынуждены были строить повое общество на пустом месте… Это и есть животворящая анархия. Мы имеем только один неизменный план — беспощадное разрушение. Мы очистим мир от двуногих тварей, таких, как помещики, чиновники, кулаки-мироеды. Попам мы вырвем язык.
Лиза с нарастающим недоумением смотрела на Бакунина.
— Какую же казнь вы изобрели для царя? — спросила она.
Бакунин вспыхнул, мелкие капельки пота появились на его обрюзгшем лице. Он нервно провел ладонями по волосам.
— Мы не будем трогать царя… Мы оставим царя жить… Пусть же живет палач до той поры, когда разразится гроза народная. Судить его не наша цель, для этого есть суд мужицкий.
— Странная логика, — сказала раздумчиво Лиза. Про себя она думала с раздражением: «Какой, однако, фразер».
Разговор продолжался. О Герцене Бакунин упомянул вскользь и как-то свысока, заметив, что отношения их ухудшились. Затем он сообщил, что создает весьма могущественное революционное общество, которое вольется в Интернационал, сохраняя, однако, свои теоретические особенности.
— Недавно я виделся с Марксом, мы вскоре объединим наши силы, но заумные идеи этого немца растворятся в бурном потоке моего нового учения, — доверительно сообщил Бакунин.
— Мне думается, что Маркс сейчас самая значительная личность в революционном движении мира, — заметила Лиза. — В Сент-Луисе мы постоянно бывали у его близкого друга, полковника артиллерии Вейдеменера. Мой муж сражался под его командованием в нынешней американской кампании. Полковник — достойнейший человек, убежденный социалист. Он давал мне все сочинения Маркса, и я не могу не отдать должное автору. Это могучий ум и, кажется, большое сердце.
— Так-с! Значит, и вы не избежали гипноза. Что же, по-вашему, этот немецкий профессор гениален? И это говорите вы, русская женщина и некогда мой друг?
Бакунин не мог скрыть своего раздражения.
— Я не признаю его величья и вообще отвергаю какие бы то ни было авторитеты. Таких немецких ученых, как он, на свете немало.
— Но почему вы так вспылили, Мишель? — удивилась Лиза, впервые, как когда-то, назвав Бакунина уменьшительным именем.
— Ничуть. Я знаю цену Марксу и потому вижу, как вы, подобно многим, заблуждаетесь в нем. Он не создал и не создаст ничего значительного. Не все, однако, превозносят этого божка Международного Товарищества. Карл Фогт, например, родственник Герцена, о нем другою мнения.
— Вам не следовало ссылаться на грязный пасквиль этого сомнительного человека. Он испачкал им только самого себя. Помои Ксантиппы не унизили Сократа, — рассердилась Лиза.
— О, можно поздравить Маркса с еще одной пылкой последовательницей. Вы, однако, скоро узнаете, кто в действительности этот Прометей пролетариата. Он хочет главенствовать. Он опасен потому, что ловко скрывает свои цели. Диктатура — вот к чему он ведет. Я отдаю должное его целеустремленности и знаниям, но еще в Брюсселе я постиг его черную душу.
Бакунин встал, поднялась и Лиза.
— Вы действительно возненавидели его еще тогда и знаете отчего, — четко выговаривая слова, произнесла Лиза. — Потому, что вы ему завидуете, оставаясь вечным одиночкой, бунтарем.
— Нет! — резко, фальцетом выкрикнул Михаил Александрович, будто Лиза вонзила в него булавку. — Он не Моцарт, не гений, а я не Сальери. История нас рассудит и, может быть, отдаст мне предпочтение. Я восемь лет горел в тюремном аду. Я…
Бакунин осекся и быстро закрыл лицо руками. Перед ним вдруг промелькнуло несколько картин, которые он хотел бы забыть навсегда. Алексеевский равелин, полумрак камеры, тюремный фонарь и исписанные листы бумаги с преследующими его и поныне проклятыми словами позорной исповеди: «Государь, я преступник перед Вами… Я благословляю провидение, освободившее меня из рук немцев для того, чтобы предать меня в отеческие руки Вашего Императорского Величества… Кающийся грешник…» Перед ним мелькнули строки доноса царю на Маркса.
Лиза по-другому объяснила его оцепенение. Она устыдилась своих упреков:
— Простите меня, Мишель, вы так долго страдали. Я оскорбила вас, вышедшего из бездны. Вы прошли через тяжелые испытания как герой. Когда потомки будут изучать вашу жизнь, они воздадут должное величью вашего подвига. Простите же меня за грубость.
— Молчите, довольно об этом, молчите. С Марксом мы теперь будем сражаться рядом.
Бакунин опустился на стул и закрыл лицо руками, тяжело дыша и что-то бессвязно бормоча. Внезапно он отвел ладони, протер и надел очки в металлической оправе и сухо сказал:
— Экую мелодраму разыграли мы с вами. Не будем более спорить и касаться прошлого. Бог с ним. Вы, я слыхал, стали нынче богаты, а революционная борьба требует желтого металла, он легко превращается в пистолеты, адские машины и бомбы.
— Я не хотела бы такого их применения. Террор кажется мне безумьем. Если вам нужны средства для издания книг, газеты, которая будет полезна, рассчитывайте на меня и моего мужа. Мы охотно внесем свою лепту, хотя и не разделяем ваших взглядов.
— Вижу пагубное влиянье марксидов.
— Отвечу на это изречением Леонардо да Винчи: верность всегда сильнее оружия, — сказала Лиза.
Разговор не клеился. Наступило неловкое молчание. Лиза спросила Бакунина о его семье, счастлив ли он.
— Как вам сказать? Тот же Леонардо говорил, что счастье или несчастье зависят от того, как мы воспринимаем то или иное, и это правильно. Что до жены моей, Антонии Ксаверьевны, она очень мила, добра и глупа, как, впрочем, большинство женщин. Она мне ни в чем не мешает, а это большое достоинство.
Лизу покоробили развязный тон и слова Михаила Александровича, и она обрадовалась, что могла с ним распрощаться. Когда несколькими минутами позже большая черная гондола увозила Лизу с дочерью прочь от Лидо, она почувствовала то внутреннее спокойствие и легкость, к которым тщетно стремилась многие годы после разлуки с Бакуниным. Ей даже захотелось петь. Когда они подъезжали к белой гавани, им пересек путь плывущий в полном молчании похоронный кортеж. Были уже сумерки. Пунцовые факелы освещали черный гроб на лодке-катафалке, направлявшейся к островку Сен-Микеле, превращенному в кладбище.
«Сегодня и я хороню свои былые иллюзии», — подумала Лиза, провожая взглядом печальную процессию.
Первого мая старшей дочери Маркса минул 21 год, возраст, которым в Англии обозначают совершеннолетие. С раннего утра в Модена-вилла установилась приятная праздничная суета. Готовился торжественный ужин, к которому были приглашены гости. Лаура, славившаяся хорошим вкусом, вместе с матерью заканчивала отделку платьев именинницы и неугомонной Тусси.
Карл дал себя уговорить в этот день и отложил работу над «Капиталом», но выговорил, однако, время, чтобы остаться одному и написать письмо Энгельсу, в котором подробно сообщал о делах и людях, деятельно участвующих в Международном Товариществе.
За обедом Женнихен заняла место подле отца. Это был «ее день». Она сама заказала те блюда, которые наиболее любила с детства. Пирожные со сливками и традиционный именинный пирог Ленхен испекла на славу.